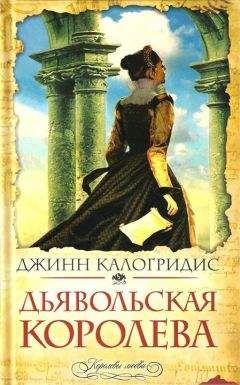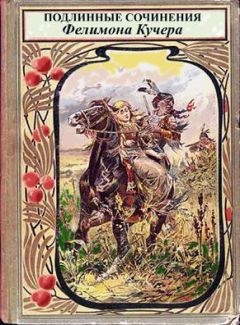Алая кровь забилась фонтаном. Через одну-две секунды руки Монтекукколи оторвались от плеч, ноги — от паха. Туловище по инерции проехало немного и осталось лежать лицом вверх. То, что осталось, не было похоже на человека: из четырех зияющих отверстий, окаймленных рваной плотью, хлестала кровь. Из самого большого отверстия выскочили блестящие внутренности. Туловище дергалось на брусчатке, словно рыба на берегу.
Он был жив. Монтекукколи был еще жив.
Грумы остановили лошадей, и те медленно вернулись, каждая тянула за собой конечность, которую Монтекукколи мог видеть. Один всадник подъехал и положил еще дергающуюся ногу с оголенной жемчужно-белой бедренной костью перед лицом умирающего человека.
В толпе придворных позади меня кого-то вырвало.
Я сидела неподвижно, положив руку на плечо маленькой Маргариты. Она рыдала, уткнувшись мне в колени. Я же не отрывала глаз от страшного зрелища, впитывала в себя каждый жуткий миг экзекуции, пока Монтекукколи не затих, пока его обрубленное тело не перестало биться и пока труп не перестал брызгать кровью.
Когда его величество, судя по всему, удовлетворившись, поднялся, я тоже встала вместе со всеми. Взглянула на мужа и увидела, что лицо его по-прежнему горестное. Возможно, тот день заставил его страдать еще больше. Посмотрела я и на короля Франциска. Его лицо не было лицом любящего отца. Передо мной был безжалостный властитель, и его жажда отмщения не была удовлетворена.
После казни король пошел к мессе и немедленно причастился. Если он и чувствовал сожаление из-за гибели графа, то умело его скрывал.
Затем мы удалились каждый в свои покои. Я в своем кабинете продолжила работу над гороскопом Генриха.
Сатурн — холодная мрачная планета, предвещает тяготы, потери и печаль. Гороскоп Генриха указывал на несчастную жизнь и раннюю смерть тех, кого он любил. У моего бедного Генриха Сатурн появился под знаком Козерога.
Увидев это и оценив все неприятности, которые сулил гороскоп, я решилась на смелый поступок: покинула свои апартаменты и направилась к мужу, пока даже не представляя, что ему скажу. Лишь хотела успокоить его, отвлечь приятной беседой. Если честно, надеялась, что он снова падет в мои объятия.
Был уже вечер, но Генриха я не застала, и его паж не знал, где хозяин. Я попросила пажа сообщить мне, когда мой муж вернется.
Поужинав в одиночестве, я известила также мадам Гонди, что мне нужно поговорить с Генрихом. Прошло несколько часов, я всерьез забеспокоилась и отказывалась раздеваться.
Была уже ночь, когда мне передали, что дофин у себя. Я сразу поспешила туда и постучала в дверь.
На пороге появился другой паж. Он очень удивился моему визиту. Генрих был в комнате, без воротника и без чулок. Он явно устал, но настроение у него было лучше, чем днем. Когда он увидел меня в дверях, полностью одетой, то тревожно вскинул брови.
— Катрин! Что случилось?
По крайней мере, он на меня посмотрел.
— Все в порядке. — Я повернулась к пажу. — Месье, будьте добры подождать за дверью, пока я вас не позову.
Паж нервно взглянул на Генриха, но тот кивнул, и слуга оставил нас одних.
Муж жестом пригласил меня сесть рядом. Я заметила, какими четкими стали очертания его лица, красиво обрамленного темной бородой, и как огонь в очаге отражался в его черных глазах. Одно его близкое присутствие действовало на меня обезоруживающе. Я невольно вспомнила день, когда он взял меня на полу перед камином. Я посмотрела на свои руки, тело окатила волна тепла.
— Не стоило беспокоить тебя в такой поздний час. Прости, пожалуйста. Я лишь хотела выразить поддержку. Понимаю, как тебе сегодня было тяжело.
— Благодарю, — отозвался Генрих.
В его голосе я уловила легкую нотку нетерпения. Он утомился. Наверное, желал, чтобы я ушла. Теребил в руке платок.
Набравшись храбрости, я продолжила:
— Я скучала по тебе, Генрих. Волновалась. Вижу, что ты так и не поел. Ты рискуешь заболеть. Я… можно, я тебя обниму? Просто как член семьи. Хочу показать тебе свою любовь и заботу.
Я не спросила насчет кольца, боялась, что Генрих начнет оправдываться.
Он торопливо поднялся, нервно взглянул в сторону и ответил:
— Конечно, Катрин.
Мой муж был очень высок. Я обняла его и прижалась щекой к его груди. Обняла его очень нежно и опустила веки, надеясь, что мои руки его успокоят, но тотчас снова широко открыла глаза.
От дофина пахло ландышем.
В ужасе я отпрянула. Он был в том же костюме, что и на казни: черный дублет с черными бархатными рукавами, в прорезях видна белая атласная рубашка. Белая, как и нижняя юбка у мадам де Пуатье. На столе возле него лежал его черный бархатный берет с единственным серым пером, в тон серой ленте на головном уборе мадам.
— Она, — прошептала я. — Ты был с ней. Поэтому ты и снял мое кольцо?
Лицо Генриха вспыхнуло. Он уставился в пол. Ему стыдно было на меня смотреть. Я разглядела платок в его ладони: белый шелк с вышитой на нем большой черной буквой D. Словно признаваясь, Генрих кинул его на стол.
— Ты, — выдохнула я, — ты ненавидишь своего отца, потому что он плохо относится к королеве. Теперь ты должен ненавидеть самого себя.
— Все случилось само собой, Катрин, — произнес он тихо, голос его дрожал. — Я никогда не хотел причинить тебе боль.
— Она тебя использует! — яростно воскликнула я. — Раз ты теперь дофин, она принесет тебе в жертву свою добродетель. Она тебя завлекает.
— Нет, — покачал головой Генрих. — Она любила меня, когда никто другой меня не любил. Любила меня и Франциска, как мать. Даже когда отец отдал нас испанцам. Когда она узнала, что Франциск умер, это ее чуть не убило. Она любила его не меньше меня. Она понимает, что для меня значит его смерть, больше, чем кто-либо другой.
— С каких это пор матери утешают сыновей, раздвигая перед ними ноги?! — крикнула я.
Мой муж дернулся, словно я дала ему пощечину.
— Из уважения к тебе, — хрипло сказал он, — я удерживался от соблазна так долго, как мог. Мы оба с этим боролись… пока горе не сломило нас. Сегодня мы впервые согрешили, и Господь уже наказал меня, послав тебя сюда, чтобы я видел, как тебе больно. — Генрих впервые посмотрел мне прямо в глаза. — Я очень старался полюбить тебя, Катрин, но она похитила мое сердце задолго до твоего приезда. Знаю, что это грех, и если Господь покарает меня, то за дело. Но больше я не могу без нее жить.
Он взял что-то с туалетного столика и вложил мне в ладонь. Кольцо-талисман.
— Возьми его, — добавил он. — Это суеверие, противное Богу. Не надо было соглашаться его носить.