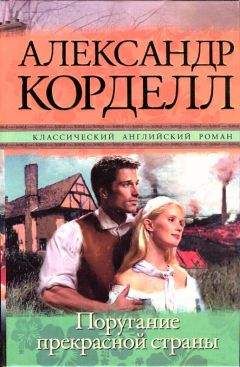Я прошел к ней сквозь толпу.
— Подними его и отнеси к нам домой, надо его перевязать, — сказала она. — Эдвина! Беги скорей за женой мистера Оуэна, а то как бы он не помер.
Насмерть перепуганная Эдвина побежала выполнять поручение.
Десять минут, чтобы задать взбучку Карадоку Оуэну, две минуты, чтобы задать взбучку целому поселку. Все смотрели на нее, когда она повернулась и зашагала к нашему дому. Закинув руки Оуэна к себе на шею, я поволок его следом за ней. Она шла, как царица Савская, растопырив юбки, высоко задрав нос, — шла назад к себе на кухню.
После этого нам в Нантигло некоторое время жилось очень приятно: встречая мою мать, мужчины снимали шапки, а некоторые женщины даже приседали; ведь скоро весь поселок узнал, что Мортимеры сорвали стачку, пробыв тут всего четыре дня. Нам присылали особые приглашения на молитвенные собрания, а соседки то и дело забегали выпить чашечку чая и поболтать — женщины все ненавидят стачки, что бы они там ни говорили своим мужьям и сыновьям. И до Рождества больше ничего не случилось, только Морфид родила.
Уж Морфид всегда выберет неподходящее время — схватки начались, когда дома никого не было, и рожала она прямо на полу, как последняя батрачка. Всего два часа, а весил он одиннадцать фунтов, сказала моя мать; и хоть бы застонала разок, говорили соседи. Когда мы с отцом вернулись с работы, Морфид его уже кормила.
Ричардом назвала она его. Да и был этот здоровяк вылитый Ричард, даром что мал, и высасывал Морфид досуха, как Джетро — мать.
Теперь в нашем доме жило восемь человек — ведь Мари дневала и ночевала у нас; а комнат три — одна внизу, две наверху. Мужчины спали в одной комнате, женщины и Ричард — в другой, хотя, по правде говоря, спали все мало, уж очень он был горластый.
В ту ночь, когда заработал весь завод, я лежал на спине рядом с Джетро и смотрел, как лунный свет в комнате становится все краснее: это разгоралась Первая печь. К полуночи она выла в полный голос, дом содрогался от ударов молотов, а новые вальцы визжали, как все силы ада. С потолка срывались хлопья штукатурки и, кружась, падали на пол, по окну пробегали красные языки отсветов, а грохот все рос, и скоро ночь запылала. Но Джетро и отец спали как убитые. Сбросив одеяло, я подошел к окну и выглянул наружу. Склон горы превратился в сплошной костер, бесчисленные печи слили свое пламя в огромный круг, и каменные домики рабочих вдоль огненного края этого котла съеживались и сжимались, принимая странные, уродливые формы. Вот она, империя Бейли, где железо, кипя, растекается по тысячам желобов. Тут льется пот, тут галлонами пьют пиво, тут рабочие умирают в мучениях, а дети в десять лет становятся стариками. Тут лопаются глаза и пустые рукава перевязываются веревочкой. В багровом небе углем чернел парапет хозяйского дома, поблескивали окна, сторожевые башни грозили непокорным. От Кум-Крахена до Коулбруквела бушевала огненная река. Мимо окна пролетал пепел и как снег оседал на землю. Тянулись ночные часы, рев становился все оглушительнее, и небо вдруг ярко заалело — это пробили летки, и жидкий металл пошел в изложницы. А рядом, за тонкой перегородкой, у груди Морфид заплакал Ричард: новое поколение, которое сожжет сын Бейли.
В эту ночь, когда заработали все печи Нантигло, меня грызла тоска по родному поселку. И тоска эта стала еще сильней в ту весеннюю ночь, когда моя мать пришла к моему отцу, ища успокоения, и я видел все.
Было воскресенье, мы побывали в молельне, а между мной и Гарндирусом уже стоял мрак многих зимних ночей. Иней исчез с изгородей, зеленели набухшие почки, и Койти подумывала о том, чтобы сменить цвета. Пришли ночи, когда полная луна плыла над Койти и еще не погибшие соловьи призывали влюбленных.
И вот в такую ночь, когда печи еще не начали реветь во весь голос, пришла моя мать.
— Хайвел, — прошептала она у двери.
Поверх ночной рубашки она накинула на плечи белый вязаный платок и в лунном свете казалась очень красивой; точно девушка, бегущая на свидание к возлюбленному, подумал я. Дверь нашей спальни заскрипела — она пошла, протянув перед собой руки, словно во сне, и опять позвала:
— Хайвел.
Я услышал, как отец в постели у окна зашевелился.
— Элианор, — шепнул он в ответ.
Она прошла к нему на цыпочках, и конец платка скользнул по моей руке. Через окно лился лунный свет, и на ее лице лежали глубокие тени. Он протянул руки к ней навстречу и прижал ее к груди, целуя в губы. Они были любовниками, а я соглядатаем. Я лежал там, и мне некуда было деться.
— Элианор, не здесь, радость моя, — сказал он. — Завтра, девочка. Встретимся в горах, не здесь…
— Мальчики спят, Хайвел, — возразила она. — Или вся жизнь для нас — только есть и спать? И работать? Возьми меня, Хайвел, мальчики не услышат.
В лачугах Нанти отцы спали в одной постели с дочерьми, матери с сыновьями, братья с сестрами. Шестнадцать человек на комнату в Коулбруквеле, по четверо на постель.
Я услышал, как скрипнули пружины, когда она легла рядом с ним. Я слышал, как их быстрое, жаркое дыхание стало тихим и прерывистым. Гнев и отвращение охватили меня. И жалость.
Они не пошевелились, когда я вышел из комнаты — вниз на кухню, распахнуть дверь и скорей на гору! Там я стал смотреть, как разгорается заря — огненно-красная полоска, возникшая из мрака. И с зарей исчезла тайна, угасло отвращение. Пришла красота, и, пока звезды бледнели и таяли, мир воцарялся в моей душе. Из долины не доносилось ни звука, и я слышал только песню горных ручьев, когда сидел там и молил Бога, чтобы Джетро не проснулся прежде, чем они расстанутся.
Весной я вырезал для Мари ложку.
Еще стояли холода, и весь край окутывала тишина, словно весенние соки ждали, затаив дыхание. И ночь нашей встречи была темна. Конечно, мы встречались почти каждую ночь, но эта была особенной; а все потому, что Мари соблюдала себя — вырывалась, не скупилась на затрещины и даже целоваться не хотела, пока все не будет сделано по обычаю.
Думала она, конечно, о ложке, хотя, само собой, заговорить о ней не могла. И вот я вырезал для Мари ложку, потому что хотел лечь с ней и до сих пор ничего не сумел добиться.
Войдя во двор, я поглядел на гору. Далеко-далеко, над смутной вершиной Койти, ветер гнал переливающиеся серебром Плеяды, Орион сверкал золотыми и зелеными огнями, а Венера творила крест, как говорят старики. Вверх по склону бежал я, чтобы встретиться с Мари, напрямик по длинному зеленому склону, а потом сел среди сухого вереска, и у моих ног пылали печи Нанти. И там ледяными пальцами я вырезал маленькую ложку.