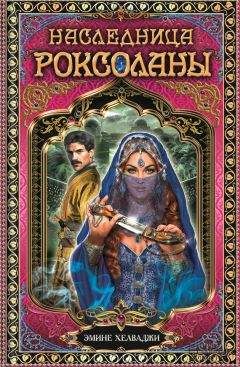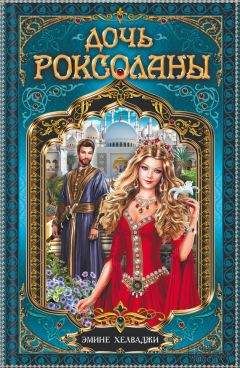Возможно, самого Каторжного Пашу это не остановило бы. Но Бал не увидела в фута-кайыке никого, похожего на него. Второй капитан, Наили-баши, был, но он-то как раз знает цену, которую можно заплатить за абордажный бой, и лишний раз хлебать морскую воду не пожелает.
(Может, потому что есть там Наили и нет Каторжного Паши – ни в лодке, ни вообще. К сожалению, для Бал и Айше это сейчас ничего не меняет.)
Вторая лодка шла наперерез. Она, не такая быстрая, перегруженная, при подходе к бухте отстала – но вот сейчас пришел миг ее торжества. Точнее, придет, если сознание Айше до сих пор блуждает в тех сумеречных безднах, где слышен голос сабур-таши и льются, стекают по его янтарным граням слезы проклятия.
Но страшным голосом взревел зарбазан, выплюнул облако едкого дыма, их лодку чуть качнуло от отдачи – однако пиратскую лодку качнуло еще сильнее, она рыскнула влево, сбиваясь с погибельного для девушек курса. Айше не просто попала, а попала очень точно, в самую гущу. Ствол же, по-видимому, был заряжен целой пригоршней свинца. Так что экипаж второй лодки чуть ли не переполовинило.
Теперь для абордажных крючьев в любом случае было далеко, но могли посыпаться стрелы. А вот не посыпались. То ли на фута-кайыке с самого начала не было луков, то ли во время вчерашнего действа у них размокли и еще не просохли тетивы.
Раз так, то пороховое зелье у них тоже могло подмокнуть, да и есть ли вообще огнестрелы… на втором-то кайыке их, готовых к бою, точно быть не должно, там ведь все в воде побывали… Вот шайтан! Может быть, вправду лучше было бы засесть в башне и отстреливаться оттуда, там же целый арсенал.
Шайтан это постарался… или воля сабур-таши? Так что же, выходит, она и вправду существует?!
Так или иначе, поздно что-либо менять. Перед парусным переме открывается вся ширь морского простора.
Теперь уже Джанбал и Айше – лисицы, а пираты – гончие. Что ж, попробуйте догоните. Второй пес к тому же охромел, едва тащится, скуля и роняя кровь на бегу, только ярость не дает ему оставить погоню.
А вот фута в погоне хóдок и опасен. Ярости его экипажу тоже не занимать. Так что погоня будет долгой – и невесть где, невесть когда удастся от преследователей оторваться.
Зато теперь у них и в мыслях нет свернуть к гавани, где старики и подростки сейчас готовят оборону.
Бал развернула парус к ветру и направила переме в открытое море…
9
Ох, правоверные, ну что мы вам скажем… Можно по-разному свою жизнь прожить, это всем известно. Лучше всего, разумеется, прожить ее именно так, как подобает истинному мусульманину. Быть уважаемым человеком, почитающим Коран, жен своих любить, детей достойными людьми воспитать, с соседями жить дружно, налоги платить исправно. А можно в жизни ничего и не достичь, прозябать в ней, как последний гяур. И ни уважения тебе, ни почета.
Или вообще стать разбойником, вором, пиратом. Сиюминутная выгода, а позор на всю жизнь. Хотя обычно неправильные людишки и живут недолго. Ну, туда им и дорога. Всяко не в рай попадут, но в лапы иблиса это уж точно. Сбросят их после смерти с моста над огненной рекой, коий тоньше волоса и острее лезвия меча, и низвергнут в пучину огня, где вовеки пребывать им вместе с гяурами, отцеубийцами и фальшивомонетчиками.
А можно жизнь прожить и зверем. Что, однако, ничуть не помешает правоверным тебя любить, уважать и на тебя надеяться. При условии, конечно, если нечто подобное и ты можешь в ответ предложить. А то ведь не всякий зверь сможет.
Тот, о котором мы поведаем вам, мог. И любить мог. И надежду давать мог. Что до уважения, так оно, по его мнению (а оно, мнение, у него имелось всегда), должно быть заслужено.
А еще, правоверные, он обладал таким качеством, как преданность. А ее ни на весах не взвесишь, ни руками не потрогаешь, не украдешь, не присвоишь. Потому что не купишь, не выменяешь, не сторгуешь нигде. Преданность – она такая штука, что с кровью входит и остается в тебе навсегда. Потому что понимаешь всеми потрохами своими, душой своей и сердцем, что не предашь тех, за кого готов, не раздумывая, жизнь отдать. Как, собственно, и они за тебя.
Возможно, этот зверь, матерый самец пардовой рыси, именно этими словами и сказал бы о верности и дружбе. Если бы умел говорить. Хотя кто сказал, что не умел? Еще как умел! Глазами, ушами, телом, даже куцым хвостом своим – умел. Ему вполне хватало. Людям, как ни странно, тоже. Тем, кто понимает. И уважает. И в ответ так же предан. А бóльшего и не надо, это уж излишество от Иблиса, который, правда, над зверями не властен.
* * *
С некоторых пор Пардино стал видеть и сны, совсем как человек. Вернее, почти. Все-таки его сны отличались от человеческих по самой сути своей. Если у правоверного и сон как сон, простой, словно сама его жизнь, ничего такого, что гяуры называют «пророческим» или «вещим» (во всяком случае, не должно такого быть), то у этого зверя даже в снах имелся и запах, и особая подоплека, замешанная на непонятных смыслах, предугадывании чего-то, что неведомо пока даже толкователям воли Аллаха. И сильным мира сего тоже неведомо, что уж говорить о простых смертных.
Так уж вышло, что частенько Пардино-Бей начал предвосхищать и предугадывать то, что скрыто за завесой, погребено за чередой событий и соткано лишь намеками да какими-то неясными штрихами. Человек сведущий сказал бы, что так взрослеют, отбрасывая за ненадобностью и детские наивные страхи, и детские наивные мечты, и самое детство. Только детство-то у любой рыси заканчивается на втором году жизни, а сейчас уже скорее старость близка. Так что не во взрослении дело. Было еще что-то, связанное или с милостью Аллаха, или, что скорее всего, с проделками иблиса, будь он проклят во все времена и всеми правоверными…
А с другой стороны, загадочны и таинственны все пути, доступные безгрешному зверю.
Что мы можем вообще знать о них, как нам понять, где тут воля Аллаха, где иблиса? Да ничего и никак, по большому-то счету. Сам Пардино, возможно, и имел какое-то мнение по этому поводу, но он уж точно никому о том говорить не стал бы. Всякими пустыми разговорами пусть занимаются люди, это их любимое занятие. На то они и люди.
В то утро ему снилось, что проснулся он задолго до рассвета – как от толчка, как от укола. Словно в сердце кто-то кольнул острой иголкой да и был таков, исчез, растворился в предутренних сумерках, оставив Пардино-Бея лежать с открытыми глазами, в которых ни сна, ни неги, одни лишь настороженность и тревога. Гибко, рывком зверь поднялся на лапы, напряженно прислушался и замер, готовый…