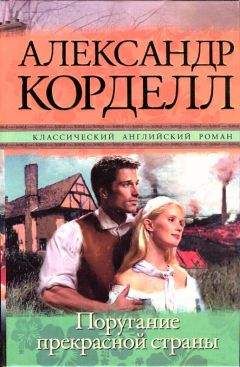— Погоди до утра, — бормотал я, возясь под кроватью. — Я с Морфид шкуру спущу, и пусть меня потом повесят!
Спать нам не хотелось, да и миловаться тоже, я ведь не из тех, кто занимается этим походя. Я натянул свою ночную рубашку, Мари — свою, а заодно и панталоны, и вели мы себя при этом чинно и спокойно. Мы уже начинали расправлять покрывало, как вдруг Мари побежала к двери.
— Ах ты черт, откуда это здесь взялось? — воскликнула она, снимая записку. — От Морфид, — добавила она, поднося ее к свету.
— Мы ее не заметили, когда вошли, — сказал я. — Читай вслух.
Она прочла:
«Оставайтесь в пустом доме и развеселите старую кроватку, а мы поехали погостить в Гарндирус». Мари улыбнулась и поцеловала меня.
— Значит, мне опять ложиться?
И я поцеловал ее, забыв о своей досаде, мы поправили простыни и одеяла и улеглись. И теперь, даже залезь под кровать сам Люцифер со скрипками и литаврами, мы ничего не услышали бы. Ведь шума не замечаешь, когда подслушивать некому. И мужчина велик, ощущая под ладонями нежное, как лепесток, тело женщины, а в ушах сладкий трепет ее дыхания. Охваченные усталостью, мы смотрели, как луна, подобрав юбки, перешагнула через Койти, озарила землю и затмила звезды своим сиянием. Луна меркла, мы засыпали, а проснувшись, снова тянулись друг к другу, пока не опустился занавес туч, погружая нас в густой мрак, и не заревели полным голосом печи.
Слава женщине и ее тайне тайн, дарящей нам любовь и исступление.
Слава Мари, теперь, когда утих первый пыл.
Слава всему сущему; слава этой стране, превращающей в прах кости своих завоевателей; слава силе моего отца, юности Джетро, скорбной красоте Морфид и новой вере Эдвины. И всем людям земли, богатым и бедным, ниспошли, Господь, эту радость, пока тьма не рассеется, не исчезнет забытье и не вспыхнет заря над горой. Слава святому Петру и Господу, соединившему нас, и золотому кольцу, что связывает нас, и рекам, и звездам над нами. Слава Уэльсу и людям, которые поведут нас вперед. Gogoniant i fywvd, i gariad, i wreigiaeth i Mari, gyda mi'n Un![8]
Так и прошло это лето — в одной любви. Наступила холодная бурая осень, и мы с Мари перебрались в ту половину дома, где прежде жила Морфид, — платить за него приходилось шиллинг три пенса в неделю, и, по правде говоря, это было нам не по карману. Но надо же обзаводиться своим хозяйством, сказала мать, ведь и двух женщин достаточно, чтобы превратить кухню в ад, а в нашей их толклось четыре.
То воскресенье, когда к нам пришел Томос Трахерн, навсегда останется в моей памяти.
Дни уже стали короткими — грустные сумерки между летом и зимой, — и Вершину окутывали вечные туманы, скрывая от посторонних глаз военные учения чартистов и факелы, освещавшие ночные собрания союза. Тонко звенели оголенные живые изгороди, а когда мы с отцом и Джетро уходили с завода, длинные тени вставали копнами ржи, сжатой на старых фермах. Луна и звезды сияли по-новому, и паутина на кустах ежевики казалась в их свете совсем синей, когда я морозным утром выбегал мыться на крыльцо, а дорога в Бланавон резкой чертой прорезала серые пустоши.
И вот в такой осенний вечер к нам из Гарндируса явился Томос Трахерн, совсем запыхавшись после пятимильной прогулки: старый дурак притащил с собой свою Библию, а под ее тяжестью и осел свалился бы. Мать, как всегда, пряла, Морфид шила, а Мари кроила чепчики и маленькие рубашки, исподтишка посматривая на меня через стол. Отец дремал у очага, то и дело начинал храпеть, но тут же вздрагивал и выпрямлялся.
Со времени рождения Ричарда Томос еще ни разу не навещал нас, и Морфид даже взглянуть на него не хочет. Но как все-таки это похоже на прежние дни, когда Томос приходил к нам читать Священное Писание: вот он наклонился, чтобы не стукнуться о притолоку, вот обнимает и целует мать, вот протягивает отцу и мне ручищу, огромную, что твой окорок. И поднимается суматоха! Все повскакали с мест, кто-то мешает в очаге, чтобы огонь разгорелся поярче, шум, суета, он поздравляет с прибавлением семейства, Морфид стоит хмурая, но малыша уже вытащили из люльки; Томос благословляет его и целует, а Ричард заливается плачем. Вот только сейчас была тишина, и вдруг — столпотворение, а ведь еще недавно Томос пел совсем другую песенку и грозил отлучить их обоих, тогда было «зачатый во грехе и блуде», а теперь — «поздравляю, поздравляю!» Жаль, Господь пропустил в Библии заповедь о путях служителей своих, замечает Морфид. Что-то не очень она смягчается, да и неудивительно.
— Прошу прощения, — говорит она, уходит наверх укладывать Ричарда и больше не возвращается.
— Где Эдвина? — спрашивает Томос, усаживаясь у очага на ее место.
— В Абергавенни с мистером Снеллом, — говорит мать, встряхивая скатерть.
— Значит, дело у них не разладилось? — хохочет он.
— Нет, — отвечает отец, и голос у него холоднее льда.
— Выходит, еще одно венчание в церкви? Да тебе скоро можно будет открыть богословскую школу, Хайвел, столько у тебя в семье новообращенных: и Йестин церкви не миновал, и Эдвина распятие носит. А ты за ними не собираешься?
— Что я говорила! — вмешивается мать. — Значит, не одна я стою за молельню! — И начинает с довольным видом расставлять чашки.
— Как это мы с ней разминулись на Бринморской дороге? — меняет разговор Томос.
— Она пошла напрямик через гору, — объясняю я.
— Как же это! В темноте, одна?
— Она ушла еще засветло, — говорит Мари. — А когда служба в церкви Святой Марии кончится, мистер Снелл отвезет ее домой в своей тележке.
— Как бы чего не случилось, там же бродит Проберт со своими «быками». — Томос оглянулся на лестницу и понизил голос. — Экая неосторожность, когда по всей Вершине бесчинствуют разбойники вроде Дафида Филлипса! Говорят, на прошлой неделе его видели в Блэквуде — ломал там ноги.
— Да не может быть! — боязливо шепчет мать. — Говорите потише. — И она смотрит на потолок.
— Вот так-то, — говорит Томос, — и за него назначено пятьдесят фунтов награды, как и за Проберта. Жалко мне его мать, Хайвел, хорошая она женщина и не заслужила такого.
— Небось винит во всем Мортимеров, — вспылила мать. — Все винят Мортимеров и хоть бы кто попрекнул Дафида, а ведь он сам навязался Морфид и чуть ли не сразу после свадьбы принялся наставлять ей синяки. Значит, он теперь ноги ломает? Пусть-ка здесь попробует!
— Ну, раскричался боевой петушок! — сказал отец.
— И боевой, если кто-нибудь тронет моих детей!
— А за кого же ты выступишь, когда придет время, — за Хартию или за союз? — спросил Томос, подмигивая нам.