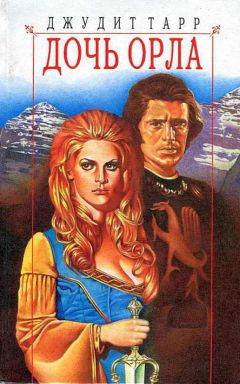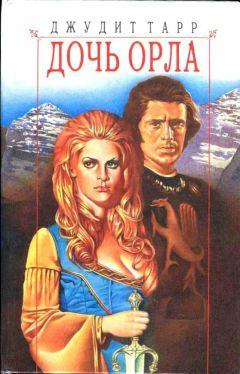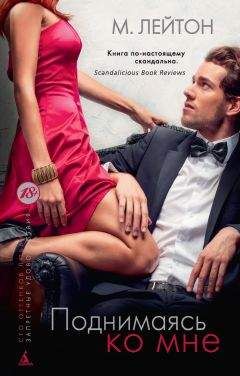— Он должен был бы быть твоим, — сказала Феофано.
— Тогда он не был бы принцем Германии. — Аспасия покачала головой. — Нет. Он принадлежит тебе. Я буду рада иногда заниматься им, если это доставит тебе удовольствие.
— Может быть, ты сделаешь больше?
Аспасия замерла.
— Что ты имеешь в виду?
— Воспитай его для меня. Научи его всему, что он должен знать.
Она говорила искренне. Или же она была гораздо более искусной лгуньей, чем могла подумать Аспасия. Аспасия встретилась с ней взглядом.
— Гожусь ли я для этого?
— Никто другой не сделает этого лучше.
Это не ответ.
— Это вопрос, — сказала Аспасия, — о грехе и раскаянии. Или об отсутствии раскаяния.
Феофано медленно вздохнула.
— Исмаил — твоя часть. — Ей было нелегко сказать это, и это ее вовсе не радовало, но это была истина, которую приходилось признать. — Твой грех — он только твой грех. Если бы он был, если бы он мог стать христианином…
— Но он не христианин.
— Нет. — Феофано сжала руки на коленях. Она медленно разгибала палец за пальцем. — Может быть, когда-нибудь… — Аспасия промолчала, не соглашаясь и не возражая.
Феофано взглянула ей в лицо.
— Учи моего сына, — сказала она.
Это был самый дорогой подарок, какой только бывает; и это было страшно. Аспасия посмотрела на младенца, спящего у нее на коленях. Его мать во младенчестве была почти такой же.
И почему только императрицы доверяли ей своих детей?
Старшая Феофано не располагала к тому, чтобы задавать ей вопросы. Младшая скажет ей, что не нужно обсуждать то, что и так понятно. Разве недостаточно, что они доверяют ей?
Аспасия сидела, покачивала младенца и улыбалась. Вот и ответ; как раз тот, который был ей так нужен.
Часть III
Императрица-мать
Германия, Италия, 983–984 гг.
Было Рождество. Всю ночь в Аахене шел снег, утром празднично засверкавший под солнцем. Казалось, сама природа радуется вместе с людьми торжественному событию: уже третий Оттон — трехлетний ребенок — восходил на престол Германии. Это был знак доверия императора, его отца, к германскому народу, свидетельство, что он любит Германию, даже если его самого дела всей империи и заставляют находиться в Риме. Там вершились сейчас судьбы мира, там возрождалась из праха забвения и запустения некогда гордая Римская империя, не забывшая былого величия.
Но в тот самый миг, когда головку ребенка увенчала корона, из Рима пришла скорбная весть: император скончался. Его унесла злая римская лихорадка. Виновница многих смертей. Ребенок, только что ставший германским королем, стал сразу же и императором, владыкою Италии и Германии.
Смерть человека — всегда горе для близких, она приносит пустоту и смятение. Но смерть монарха — это удар, от которого, кажется, содрогается земля и рушится то, что представлялось незыблемым. Честолюбивые замыслы, страх, подозрительность, недоверие выползают на свет. Их ядовитые испарения отравляют даже родство. Особенно родство. Сейчас надо было опасаться тех, в ком течет королевская кровь и кто затаил в глубине души жажду власти.
Такое уже было в Мемлебене, когда умер Оттон Великий и когда Оттон-младший, ныне скончавшийся в Риме, казался столь незначительным по сравнению со своим могущественным отцом. Сегодня смерть уравняла их, передав их души Богу, а деяния — истории. Но как не похож заснеженный Аахен на тот весенний Мемлебен, когда в часовне упал наземь, умирая, великий Оттон! Там, в Мемлебене, корону принял пусть молодой, пусть неопытный, но взрослый мужчина; здесь, в Аахене, груз императорской власти должен лечь на ребенка, которого совсем недавно отняли от материнской груди.
«Ни один трон не слаб так, как тот, который занимает дитя», — Аспасия слышала, как люди на разные лады повторяли это, пока она пробивалась через бурлящий людской хаос, воцарившийся в часовне Карла Великого. На сей раз ее миниатюрность оказалась полезной. Она проскальзывала под мышками, протискивалась в узкие просветы между телами. Несколько раз ей наступали на ноги, но не слишком больно. Хуже всего было то, что она не могла видеть за стеной голов, там ли еще Оттон, где его оставили епископы: в верхней часовне на высоком троне Карла Великого. Как бы ему не пришло в голову спускаться! Если он споткнется…
Она с трудом пробиралась вперед, как всегда упрямая, бесцеремонно толкая мешавших ей на пути. К счастью, лестница, ведущая в верхнюю часовню, была пуста. Она подобрала тяжелые, негнущиеся юбки и бросилась наверх.
Оттон был там. Ему хватило на сегодня почестей: он стоял на коленях на подушке сиденья, опершись на подлокотник, и смотрел, раскрыв рот, на шумную толпу, суетящуюся внизу. Корона, единственная из всех королевских регалий, сделанная по его мерке, съехала на лоб. Мантия перекосилась.
Аспасия с трудом перевела дыхание. Теперь, когда она убедилась, что он в безопасности, сердце, казалось, было готово выскочить у нее из груди. Собрав все силы, она сделала спокойное лицо. Она встряхнула помятыми юбками, расправила плечи, медленно взошла по последним шести ступенькам. Она не смотрела вниз. У нее закружилась бы голова, и не только от высоты.
Оттон обернулся к ней, когда она добралась до самой верхней ступеньки. Он смотрел на нее, как будто спрашивая, смеяться ему или нахмуриться.
— Посмотри, — сказал он. — Посмотри вниз. Почему они так шумят?
— Из-за тебя, — ответила Аспасия.
Он смотрел с недоумением. Она протянула к нему руки. Он мгновение колебался, потом просиял и прыгнул.
Она приготовилась к этому, иначе бы он сшиб ее с ног, и они бы вместе покатились по ступенькам. Он был некрупный ребенок, но достаточно увесистый и очень живой. Он унаследовал от матери неутомимое любопытство и большие темные глаза, но хрупкое сложение, золотисто-рыжие волосы и узкое удлиненное лицо были отцовскими. Хотя он искренне обрадовался Аспасии, он потребовал, чтобы она опустила его на пол. Она взяла его за руку, это он позволил, хотя все еще тянулся к трону и занимательному зрелищу внизу.
— Пошли, — сказала она, — пора домой.
Его лицо напряглось. Он сжал губы, чтобы удержать слово, которое, как он отлично знал, вызовет ее неудовольствие.
— Домой, — повторила она спокойно, но твердо.
Он неохотно повиновался. Она повела его вниз. Никого не было видно в часовне. Шум слегка поутих. Кто-то воспользовался этим: раздался сильный голос, приказывающий сохранять спокойствие, замолчать и выслушать ее величество.
Аспасия, как и Оттон, хотела бы задержаться и увидеть самой, как это будет, но она знала свои обязанности. Маленький Оттон, которому принадлежала теперь империя, был на ее попечении. Пока Аспасия вела его вниз по коридору, тускло освещенному факелами, шум толпы утих. Голос Феофано был слишком слаб и нежен, чтобы разноситься далеко, но глашатай сделал его хорошо слышным. Ее слушали, и слушали в почти полной тишине.