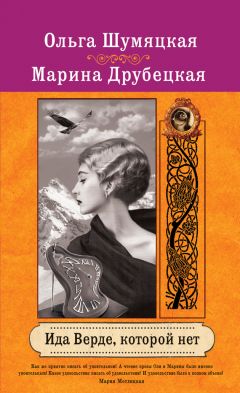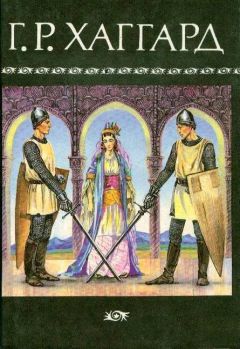Лекс совладал тогда с собой – вышел из кабинета так, будто ничего не случилось. По крайней мере ему казалось, что по его лицу невозможно ничего прочесть. Но, добравшись до своей комнаты в захудалой пригородной гостиничке – а он еще имел глупость верить, что скоро сменит ее на приличный респектабельный отель! – добравшись до своей конуры, он разразился дикими, непростительными, совершенно женскими слезами.
Через несколько дней Ида и Ожогин дали пресс-конференцию, на которой представили нового режиссера фильмы «Охота на слезы» – мерзавца Кольхена Ланского, подлого дружка-предателя.
Газеты в мельчайших подробностях описывали эту пресс-конференцию, и Лекс будто воочию видел то, что происходило. О, он прекрасно знал полукруглую мраморную залу, где Ожогин устраивал официальные приемы для деловых партнеров и собирал газетную братию для особо важных сообщений. И «изумительные песцы Иды Верде», в которых она появилась перед газетчиками, он тоже знал прекрасно. Он сам дарил их ей в день ее 25-летия.
Ожогин сухо изложил репортерам суть дела, и на первый план выступила Ида.
Скользящая полуулыбка, скользящее движение плеча, с которого спадают песцы, обнажая белую кожу с родинкой у ключицы. Как она относится к замене режиссера, ведь господин Лозинский ее муж? Ленивая затяжка. Господин Лозинский пока муж. Ничто не вечно под луной. Значит ли это, что господин Лозинский в скором времени может перестать быть ее мужем? В воздух выпущено колечко сизого дыма. Ровным счетом ничего не значит. Просто она всегда на стороне фильма. То, что лучше для работы, лучше и для нее. А впредь она намерена сниматься у господина Лозинского? Медленное движение удивленно приподнятых бровей. Конечно! Просто господину Лозинскому, вероятно, следует браться за более простые проекты. Например, за салонную мелодраму, снятую в одном интерьере. А как она себя чувствует? Болезнь отступила? Ида приподнимается. Вы называете болезнью желание провести несколько месяцев на курорте? Забавно! Спасибо, господа! Я беседовала бы с вами и дальше, но мне надо готовиться к предстоящей экспедиции. Совсем нет времени. Она поворачивается, чтобы уйти, и – напоследок – удар в спину. Правда, что господин Лозинский изменил вам с дублершей? Застывшая спина. Очень медленный поворот головы. Презрительный взгляд из-под полуопущенных век. Изменил? Мне? Иде Верде нельзя изменить!
Она уходит.
Немая сцена всеобщего восхищения.
Лозинский захлопнул пустой шкаф, и хлопок отозвался у него в ушах пистолетным выстрелом. Сейчас он уйдет из этого дома, чтобы не вернуться никогда.
Взгляд его блуждал по стенам, словно Лекс старался заучить наизусть детали знакомого интерьера.
Вдруг что-то необычное привлекло его внимание. На стене висела картина, которую он раньше не видел. Он подошел. Стул апельсинового цвета, продавленное сиденье, превращенное художником в хохочущий рот, из которого торчат редкие зубы. Лекс снял картину, приблизил к глазам. Так и есть. В правом нижнем углу – подпись. «Д. Пальмин». Ида говорила, что купила картину Пальмина в антикварной лавочке в Провансе, но увидеть ее он не успел.
Ах, Митя, Митя! Дмитрий Дмитрич! Как вовремя тебе удалось умереть! Теперь твои картины за большие деньги перекупают антиквары, а «Безумный циферблат» – кавалькада нелепостей! – объявлен чуть ли не классикой. Случилось бы такое, будь автор жив?
Лозинский все смотрел на картину, и ему хотелось очутиться там, внутри, на продавленном апельсиновом стуле, и чтобы хохочущий рот засосал его и сожрал без остатка. Ам – и нету!
Он почувствовал, как взмок лоб, и полез в карман за платком. Вместе с платком из кармана выпала голубоватая бумажка с рядами банковских цифр. Счет. Счет за бриллиантовое ожерелье, которое Ида купила накануне отъезда. Счет же был прислан ему. Он не знал, что это значит. Если она велела послать счет специально, то… то не может ли это быть намеком на будущее примирение? А если по привычке? В таком случае оплаченный счет – неплохой для него козырь, чтобы прийти к ней с повинной.
Счет он оплатил сегодня утром, несмотря на то что неустойка, выплаченная Ожогину, съела почти все его деньги. Он даже подумывал, не продать ли ему авто.
Лозинский обвел напоследок глазами комнату и пошел к выходу, сунув картину под мышку и гася повсюду свет.
Да, решено – он возьмет картину с собой. Должно же у него хоть что-то остаться от прежней жизни?
И вот уже красное авто, всхлипывая и ревя мотором, снова взрезало ялтинские улицы. Мысль о гостиничном номере была невыносима.
В ресторацию? В синема? В театр?
Он вывернул руль и помчался прочь от центра к окраине города.
Припарковавшись возле сомнительного рода заведения, он дошел пешком до маленькой булочной, взбежал в мансарду по черной лестнице и распахнул дверь.
Зизи стояла перед зеркалом в одном из Идиных платьев спиной к нему.
Оглянувшись на звук открывшейся двери и увидав Лозинского, она улыбнулась простецкой глуповатой улыбкой, так не шедшей к точеным чертам Идиного лица, чем сразу раздражила Лекса.
Руки ее были сложены крест-накрест у ворота платья.
– Что там у тебя? – грубо спросил он.
Она подошла и опустила руки. На шее засверкали прозрачные капли, оправленные в бледно-желтый металл с повторяющимся узором из виноградных листьев.
– Красиво, – сказал Лозинский, чтобы что-нибудь сказать. – Откуда?
Она опять улыбнулась, и волна раздражения снова накатила на него. В ее улыбке было что-то самодовольное.
– Вы не думайте, Алексей Всеволодович, никто не догадался. Правда, правда, никто.
– О чем не догадался? – Он едва сдерживал раздражение. Все напряжение последних дней, и этот глупейший эпизод с Милославским в ресторации, и собственный дом, от которого он отлучен, и Идина постель, и ощущение забытого на даче щенка…
– Ювелир. Он думал, что я госпожа Верде. И даже сказал мне: «Здравствуйте, госпожа Верде! Это такая честь для нас! У нас имеются изумительные кольца с изумрудами». А я сказала: «Нет-нет, благодарю. Я хотела бы взглянуть на ожерелья». И села в кресло. А он…
Она все говорила и говорила. Ее рот открывался и закрывался методично, как у механической куклы.
Но Лозинский ничего не слышал. Волна ярости упала на него. Не понимая, где он находится, что делает и кто перед ним, он ударил Зизи наотмашь по щеке. И еще раз, и еще, и еще. Он бил ее, испытывая животное наслаждение.
– Дрянь! Дрянь! Ах ты, дрянь! – задыхаясь, повторял он.
Он бил ее за все свои унижения, за всю свою слабость, и трусость, и любовь, и ненависть, потому что уже не понимал, кого бьет – Зизи или Иду. И за все свои надежды, вспыхнувшие благодаря голубому квадратику чека и уничтоженные этой девкой, он тоже бил. И за то, что эти надежды были так жалки, за то, что Ида сделала его жалким, бил все сильней и сильней.