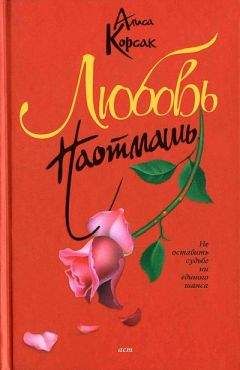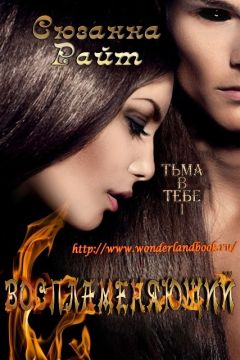Один из заключенных приподнял лысую голову.
– О, свежее мясо поставили!
Конвойный толкнул Клима в спину.
– Через минуту чтоб лег и спал!
Дверь с грохотом закрылась и свет погас. Клим растерянно стоял посреди камеры, не понимая, что ему делать.
– Чего это ты такой нарядный? – послышался голос лысого. – Ты кто – фокусник? По какой статье проходишь?
– Не знаю, – отозвался Клим.
– Если не знаешь, то ты недобитая контра, – засмеялся кто-то. – Десять лет лагерей или расстрел в подвале.
Арестанты завозились.
– Дайте поспать!
– Заткнись!
– Да пошел ты!
– Иди сюда, Фокусник! – позвал Клима голос с сильным кавказским акцентом. – Ложись тут.
Клим двинулся вперед, нащупал край нар и сел.
Тюремная стихия сомкнулась над ним, словно вода в черном омуте. Жара, вонь, храп, теснота… Камера казалась Климу жестянкой, набитой червями. У всех у них была одна судьба: их проткнут стальным крючком и скормят рыбам.
– Ты с собой ничего не взял? – спросил кавказец. – Спать на чем будешь? Ложки-миски тоже нет?
– Меня на улице арестовали, – ответил Клим.
Он расстелил пальто и лег на нары, с брезгливым ужасом ощущая прикосновения соседей справа и слева.
Совсем недавно Клим смотрел на отощавшего, замученного Элькина и даже вообразить не мог, что ему суждено оказаться на его месте. Клим Рогов был зрителем, а не участником; его нельзя было ни арестовывать, ни запугивать, ни, тем более, пытать: он был иностранцем – неприкосновенной личностью.
А теперь его приписали к категории людей, с которыми никто не считался. Он был рабом, заранее обреченным на убой где-нибудь на лесоповале или в шахте. Клим представил себя в арестантском бушлате и почувствовал, как у него волосы стали дыбом на затылке.
– Эй, Фокусник! – снова позвал кавказец. – В этой камере трусить можно только первые двадцать минут. Десять ты уже отмотал.
Клим вздрогнул.
– Вы кто?
– Ахмед. Слушай внимательно: будешь жалеть себя – умрешь. Ты в бой когда-нибудь ходил? Я ходил. На войне убить могут, а ты на коне скачешь и ни о чем не думаешь, потому что ты наступаешь и ты все решаешь. Вот и в тюрьме так надо. Скажи себе: «Я тут решаю, бояться мне или нет».
Но Клим был не в состоянии думать ни о каких спасительных заклинаниях.
– А если пытать будут? – сквозь зубы выдохнул он.
– А ты не считай боль болью. На войне меня подстрелили, а я полдня бегал с пулей в груди – ничего не замечал. Человек – живучий зверь, если сам себя не губит.
– Не слушайте его! – отозвался старческий голос. – Ахмедке рукояткой нагана по переносице съездили, у него теперь глаза в разные стороны смотрят, и башка набекрень. Не питайте ложных иллюзий: я – генерал от инфантерии! – пять лет в большевистском лагере сортир чистил. Меня выпустили, а через неделю опять арестовали. Я уж бог знает сколько заявлений следователю написал: «Расстреляйте меня, не мучьте!» А он мне: «Сами знаем, кого расстреливать, а кого перековывать».
– Зачем Фокуснику неправду говоришь? – рассердился Ахмед. – Ни ты, ни я не знаем, что с ним будет. Только Аллах знает, а нам все равно не скажет.
Под потолком снова вспыхнул свет, и в окошко в двери заглянул надзиратель. Поводил зрачком, убедился, что все в порядке, и камера вновь погрузилась во тьму.
4.Зайберт стоял перед плитой и жарил себе яичницу – угощать Нину он не собирался.
С этой ненормальной не было никакого сладу: она постоянно теребила Зайберта – то ей надо показать, где продается приличная одежда, то изволь ехать с ней на вокзал и жди Элькина. Разумеется, тот не появлялся, и они лишь зря теряли время.
Присутствие Нины неимоверно усложняло жизнь Зайберта. Он хотел спать в своей кровати, а не в гостиной на диване; ему нравилось ходить по квартире в трусах и расстегнутом халате – как он привык… А тут изволь круглые сутки быть при параде!
Но самое обидное, фрау Хаусвальд – очень приятная женщина, живущая напротив, решила, что Нина является любовницей Зайберта, и теперь при встрече поджимала губки и бросала сухое «Добрый день». Это вместо того, чтобы подолгу обсуждать с Зайбертом дела Рождественского комитета и украшение балконов электрической иллюминацией!
Он буквально молился, чтобы мистер Рогов поскорее приехал и забрал свою подружку, но Клим, как и Элькин, пропал без вести.
Все это напоминало дурное шапито. Из вежливости и человеколюбия Зайберт не мог выставить Нину на улицу, но сколько могло продолжаться это безобразие?
«Я должен попросить ее уйти!» – мысленно повторял он и все никак не мог решиться на серьезный разговор. Зайберт чувствовал себя легко и свободно в компании покладистых женщин, вроде Лизхен и Гали, а в присутствии Нины ему было тяжело, словно она не давала ему дышать.
Зайберт переложил яичницу на тарелку, но стоило ему сесть за стол, как в столовую вошла Нина – легка на помине!
– Генрих, давайте отправим еще одну телеграмму в Москву! Мне надо узнать, что случилось с Климом.
Зайберт бросил вилку на стол и в негодовании уставился на Нину.
– Слушайте, я уже устал… Мне все это совершенно не нужно! У меня свои планы на жизнь!
Он понимал, что начинает грубить, и от этого еще больше распалялся.
– Вы обещали мне помочь с немцами Поволжья – и что же? Вы не привезли денег на фрахт! Вы обманули меня, выдав себя за Хильду Шульц… Я хотел взять у нее интервью и представить ее благотворителям из нашей церкви… А что мне делать с вами?
– Я понимаю, что вы не обязаны мне помогать… – начала Нина, но Зайберт ее перебил:
– Вот и прекрасно! Поезжайте в Шарлоттенбург – в этом районе живут русские иммигранты. Купите там газету с объявлениями о найме и идите служить хотя бы официанткой. Простите, но я устал от гостей!
Но Нина, казалось, ничего не слышала. Она подошла к Зайберту и, взяв его за плечи, заглянула ему в глаза.
– Клим был вашим другом – помогите мне выяснить, что с ним случилось! Мне больше не к кому обратиться.
Зайберт застонал. Ну, вот пожалуйста – она опять начала на него давить!
– Что я должна сделать, чтобы вы сходили со мной на телеграф?
«Оставить меня в покое!» – чуть не взвыл Зайберт.
– У меня есть записи о том, что случилось с Элькиным в лагере, – сказала Нина. – Я хотела отдать их Климу, но, может быть, они вам пригодятся?
Она сбегала в спальню и принесла вырванные из блокнота листки, исписанные мелким почерком.
Зайберт принялся читать. Ого! Лесосплав… трудовые лагеря… Его настроение тут же улучшилось.