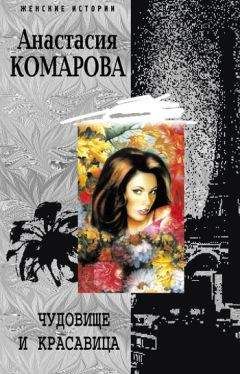Она нажала сброс. Пора собираться — завтра в это время у них самолет на Лондон.
Окончен бой, зачах огонь,
И не осталось ничего,
А мы живем, а нам с тобою
Повезло — назло.
«Агата Кристи»
Просто все, что было — было не с тобою.
Просто ты любила, а любовь порою
Разбивает все, что близко, все, что рядом.
И в осколках этих нас искать не стало.
В. Петкун
Это скрытый алкоголизм, что ли?
Оля оцепенела от столь простого и невозможного предположения, почти застыла, осторожно отставляя в угол стола и водружая на папку с документами полупустой пакетик сливок.
Свят-свят, что же это такое?! Нет, никаких ломок пока нет, абстинентного синдрома тоже, ничего такого, только… Только странно красочной и счастливой стала вчера вечером жизнь после двух бокалов испанского вина, хотя до этого, вот как и сейчас, она была напрочь лишена любого смысла, кроме разве что круговорота дерьма в природе. А может, так оно все и начинается?
Господи Боже, ужас-то какой!
Ее стол у окна считался самым завидным местом в офисе — весной, ранней осенью и особенно летом, когда сквозь жалюзи в комнату лился пыльный, бензиновый и все же ароматный воздух. Но сейчас оттуда тянуло тоской и сквозняком.
Оля всегда была мерзлячкой. «Любовь не греет!» — говорила когда-то бабушка, и маленькая Оля все думала: а как это она должна греть? Это надо, чтобы тебя кто-то сильно любил? Тогда ей должно быть все время жарко. Трудно было преувеличить степень любви мамы, папы, дедушки и двух бабушек к единственному, прелестному чаду. Оля, конечно, это знала, а потому решила: значит, любовь греет, когда сама любишь кого-то… И испугалась. Выходило, что это она недостаточно их любит? Она часто думала об этом, старалась любить больше, но не понимала — как? Зато понимала — у нее не получается, потому что теплее не становилась. Со временем она оставила это в ряду других неразрешимых вопросов детства, которые, быть может, прояснятся потом, когда она вырастет.
Но вот она выросла, а мерзнуть не перестала. Теперь полгода сидеть здесь с озябшими руками, согреваясь о горячую чашку.
Оля склонилась над чашкой какао.
Оно пахло детством — солнечными лучами на уютной бабушкиной скатерти, морозным воскресным утром, черно-желтым колючим пледом. Оля закрыла глаза и, осторожно вдыхая, опустила голову ниже, так, что волосы темными прохладными шорами ссыпались на лицо. И тогда в невесомую молочно-шоколадную смесь проник совсем другой запах — жесткий, сладкий аромат ее духов.
Оля перестала дышать. И открыла глаза.
Старость наступает, когда вдруг понимаешь, что оделась, укрыла лицо теплой пудрой, а волосы — масляным, сочным блеском не потому, что тебе всю ночь снилось море. И не потому, что хочешь быть сегодня красивой и привлекательной. А потому, что надо. Надо быть красивой и привлекательной.
Старость пришла к Оле поздно.
В тридцать три, хотя кого-то это, может, и удивляет. Некоторые стареют гораздо раньше. Гораздо. Ей еще повезло. Более трех десятков лет она умудрялась купаться в безалаберном, почти несознаваемом детстве.
Вообще-то тридцать три — возраст зрелости, но… Может, от пресловутой инфантильности, за избыток которой так ругают ее поколение, а может, по другой причине, дожив до возраста зрелости, она обнаружила, что ничего подобного как раз и нет.
— Что, вообще, за зрелость такая?.. А?
Полгода назад, когда спонтанно справляли день рождения, она задавала этот вопрос по очереди каждому из сентиментально-радостных гостей. И, не дожидаясь ответа, с каждым из них вдумчиво выпивала за свое здоровье.
— Нет, вы мне скажите, это значит — созрела, да? Да… А для чего?
Никто, разумеется, этого не знал. И она тогда не понимала, терялась в догадках, любая из которых почему-то досадно сводилась к ответственности, выбору и кризису среднего возраста.
А теперь поняла. Для старости, вот для чего. И если ваша зрелость еще не наступила — не обманывайте себя, она не наступит никогда. Потому что есть только два возраста. Детство и старость. И когда кончается детство — сразу наступает старость. Это если повезет. Некоторые рождаются стариками. Но не Оля.
На нее это обрушилось вдруг и сразу. Или так только показалось, на самом же деле ничего не рушилось, а, наоборот, вырастало — очень, очень постепенно. Пока все трудное, бессмысленное, страшное тихо копилось, упрятанное детством в потайную норку души. А в один неизбежный момент количество перешло в качество. И это качество называется старостью.
Оля мотнула головой, совсем закрыла волосами лицо.
— Н-да. Вот и состарилась… не созрев.
Этой сентенцией она поделилась сама с собой, не стремясь перекрыть скорбным шепотом жизнерадостное журчание радио.
Радио в офисе никогда не выключали. Оно булькало не громко, но постоянно, с десяти до восемнадцати, иногда дольше, и это всех устраивало, даже было необходимо — для фона и настроения, для развлечения и дурацких новостей…
«При поцелуе организм выделяет в кровь эндорфины, обладающие наркотическим действием, дающим ощущение блаженства и покоя. Учеными установлено, что при каждом глубоком и сильном поцелуе через слюну передаются органические вещества, а также некоторые ферменты, служащие полезными антибиотиками. По статистике, люди, регулярно целующиеся, живут на пять лет дольше… Поцелуй излечивает от некоторых хронических заболеваний…»
Оля желчно усмехнулась чашке, но во взгляде дрожала беспомощность. Такая очевидная, что, увидев Олю в тот момент, близкие могли бы ее не узнать, а узнав, испугались бы. К счастью, перед ней была только чашка — дорогая, авторская, из художественного салона.
— Ну-у, это смотря какой поцелуй… — со знанием дела сообщила Оля.
Чашка ответила удивленным взглядом неестественно голубых глаз. И Оля быстро отвернулась. Но недостаточно быстро. И ей пришлось-таки в который раз замереть, задержать дыхание, чтобы не захлебнуться в сжимающем омуте тревоги и жалости. И брезгливо отдернуть пальцы от теплой обливной ручки. Если верхняя часть чашкиного лица изображала девочку — с круглыми глазками и даже веснушками на тонко нарисованном носике, то нижняя у художника почему-то получилась старушечья. Чего-то у него не вышло, и пухлые щеки малютки сильно напоминали возрастную отечность, а ямочки на щеках — явные, причем довольно горестные морщины. Временами это странное произведение искусства вызывало у нее раздражение. Иногда — страх. Как кукла из глупых ужастиков про Чаки. Однако выбросить чашку или спрятать подальше в ящик стола было неловко — подарок коллектива. На тот самый день рождения.