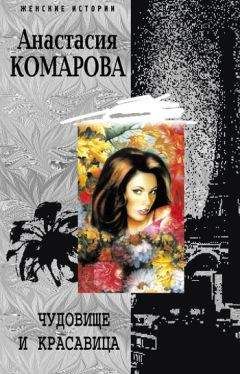«Идиотизм какой-то! Это осеннее обострение… Надо просто купить витаминов, просто сходить в бассейн. Сейчас вот поужинаю и уйду. Не буду сегодня ничего готовить — пусть посидит на сосисках, раз такой деловой…» — думала Оля, в самом деле намереваясь уйти.
Она бы так и сделала. Если бы цельную ткань первой за день здоровой мысли не рассек надвое голубой скальпель чужого взгляда. На миг ей почудилось, что она видит свое отражение, которого не нашла в зеркале у гардеробной. То же узкое, бледное, совсем потерянное лицо. Тот же рассеянный вид, и вызывающая сострадание скованность плеч, и мучительная сдержанность жестов. Он выглядел так, будто ему здесь было не по себе. Будто он хотел уйти и страдал, не решаясь встать из-за столика, будто жалел о прошлом и боялся будущего… Словом, он выглядел так, как она себя чувствовала.
Он был один. Собственно, он был единственным здесь одиночкой. Кроме нее, разумеется. Он пил водку, ел мясо, смотрел в окно, говорил по телефону и кого-то ждал. Так подумала Оля сначала, когда, быстро взглянув на него, так же быстро опустила глаза, не желая выглядеть неумелой стареющей охотницей за мужчинами. Это уже потом, а впрочем, довольно скоро, ей стало понятно, что он никого не ждет. Он так же, как она, выпадал из окружающего контекста, в таких местах можно быть любыми — неадекватными, пьяными, развязными или деловыми, но все же не такими задумчивыми, не такими натянутыми, не такими бледными, не такими несчастными. Почему она сразу решила, что он несчастен? Вероятно, ей так хотелось — думать, что не она одна сбежала сюда, прячась от своего рая. А в общем, было похоже, что так оно и есть — по крайней мере, он выглядел довольно несчастным в те моменты, когда не разговаривал с официанткой или не встречался глазами с ней. А он встречался с ней глазами, и чаще чем случайно. Он глядел на нее исподлобья опасливо, изучающе и заинтересованно. Узнал? Наверное. Почему бы нет — она ведь его узнала.
Узнала в основном мокрые, цвета грязного льна пряди, по-мальчишески свисающие на лоб и глаза. Это был тот самый парень. Это он вышел из BMW, не навороченного, но и не старого, как раз такого, какого нужно. В самый раз, в общем. Она мельком отметила это уже тогда, и автоматически поставленный диагноз был благоприятным. Дорогая машина и более чем скромная одежда — ее уровень, таких людей она любит, с такими общается, с такими чувствует себя спокойно и хорошо. У них пафос безжалостно принесен в жертву комфорту, и все — от внешности до манер — демонстрирует стойкий иммунитет к снобизму. Да, собственно, таким было или стремилось быть все ее окружение, ее и Сашкины друзья — плюс-минус, с небольшой разницей — считали себя представителями мифического, как Летучий Голландец, среднего класса.
И когда в очередной раз они встретились тревожными взглядами, совершенно неудивительно, что она улыбнулась ему. А когда в зале поднялась легкая, но раздражающая, сбивающая с приятного ритма суета, вызванная компанией слегка взвинченных топ-менеджеров, возмущающихся отсутствием свободных мест, неудивительно, что он оказался сидящим напротив, улыбаясь тонкими губами и извиняясь наглыми, уверенными в своем обаянии голубыми внимательными глазами.
Он был, бесспорно, обаятелен, но не только поэтому она ответила «да, конечно» на его просительное «можно к вам?». Не только поэтому. Ей понравился, просто и необъяснимо, как что-то родное и давно забытое, этот тон, эта его манера — скромность, которая может позволить себе быть беспредельно скромной от сознания своей милой неотразимости. Он спросил: «Можно к вам?» — и она мгновенно вспомнила себя лет в шесть. Рафаэлевский херувим с каштановыми локонами, она могла кому угодно вот с таким же выражением на лице сказать: «Можно?», ну, к примеру, конфетку… Ответ был очевиден, так же как сейчас ее ответ.
Он тихо назвал ей свое имя, такое же звенящее, натянутое, готовое порваться, как и он сам. Молодого человека звали Антон, и был он не так уж молод. Они оказались ровесниками. И взаимно удивились этому факту, который выяснился довольно скоро.
— Кстати… Сколько тебе лет? — спросил Антон, наливая им коньяку, ибо они перешли на коньяк так же естественно, как перешли на «ты». — Так сколько?
Он спросил это, катая во рту оливку, в той особенной, уже знакомой и уже понравившейся ей манере — немного хамоватой, но обаятельной непосредственности. Манере, так напоминающей ей саму себя.
— Тридцать три, — ответила она, улыбаясь, как аббатиса, которой только что отвесили комплимент.
Он двигался со сдержанной грацией льва в вольере, у него были крупные, белые руки и бесстыжие васильковые глаза. При такой внешности он мог бы смутить, разозлить, обескуражить этим вопросом кого угодно, только не Олю. Она любила этот вопрос. Любила на него отвечать, не скрывая довольной улыбки и загораясь взглядом. Она никогда не выглядела на свой возраст и знала, что уже никогда не будет. Такова была ее порода по женской линии, и, хоть Оля и переживала не в меру по поводу пришедшей безвременно старости, она была из тех счастливиц, которые лет до двадцати плачут в мамины ладони оттого, что все еще напоминают детей фигурой и выражением лица. Не говоря уже о том, что принадлежала к людям, никогда не стареющим, так как жила несколько другими понятиями, чем физическое проявление возраста. В честном ответе на этот вопрос она видела особый шик и не понимала, посмеиваясь, отчего другие женщины, выглядящие так же, как она, не пользуются этим приемом как высшей формой кокетства.
По ее ответу, по улыбке, по блесткам гранита на поверхности серых, как новый асфальт, зрачков он понял — перед ним единственная из огромного числа других, которая могла ответить именно так на этот его так заданный вопрос.
Это была первая, одна из многих в последующем примет, по которым они безошибочно узнали друг друга, как в любой компании узнают «своего» наркоманы со стажем.
Они говорили, когда по столику запрыгал телефон Антона, и он, извинившись, отошел. Оля мысленно похвалила такой поступок — она не любила, когда за столом начинали вести деловые разговоры, так, будто это кому-то интересно. А дела у него были серьезные — она поняла это, видя, как изменилось его лицо в дымном сумраке холла. Когда он повернулся, усталость была в его мальчишеской фигуре. В нем вообще было много мальчишеского, только на плечах грузно лежала безвременная старость. Это заставило Олю ободряюще улыбнуться, с удивлением чувствуя за него что-то вроде ответственности.
Он вернулся, и они снова говорили. А когда у него снова заныл мобильник, лицо его дернулось страданием, он выключил телефон и посмотрел на Олю устало, нежно и просяще. Она знала по себе — так достать могут только семья или работа.