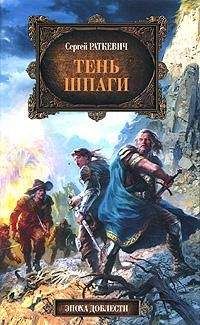— Черта с два ты будешь от меня вот так уходить, Костя, ясно тебе? — Я оттолкнула его прочь от двери, и Костя отступил, но схватил меня за руку и дернул на себя, так что я полетела в его объятья и ткнулась носом в его грудь с такой силой, что едва не сломала. — Только попробуй еще раз все испортить, придурок, попробуй еще раз попытаться от меня вот так уйти, и я обещаю, я тебе ноги вырву и…
— Костя, Юстина! — осторожно выглянула из двери Фарида, и я замолчала и сделала вид, что просто обнимаю своего мужа, и он сделал вид, что просто обнимает меня в ответ, и прижал мою голову к своей груди, чтобы я могла перевести дыхание и смахнуть неизвестно откуда взявшиеся на глазах злые слезы. — Скоро коровы, идемте. Вас все ждут.
Глава 21
Мы дождались, пока Фарида зайдет в дом, сказав ей, что тоже вернемся через минуту, а потом я отступила от Кости на шаг и…
— Значит, ноги вырвешь, если уйду, — уточнил он.
— Вырву, — хмуро пообещала я, запахивая на груди полы ветровки. — Костя, вот ты же знаешь, что я — бешеная тумановская порода, а, что ты меня злишь? Я и так на нервах из-за того, что ты уезжаешь, а ты, как специально, компостируешь мне… — я поняла, что снова распаляюсь, и все-таки заставила себя заткнуться, — прости.
— Чё компостирую? — Нет, он был неисправим.
— Не «чё», а «прости», идиот!
— Сама идиотка, — тут же отреагировал Костя, и спустя секунду напряженного и близкого к взрывному молчания мы оба вдруг прыснули и расхохотались: от нелепости слов, от облегчения и бог знает, от чего еще.
В воскресенье Костя улетел на Новый Порт, а я осталась в деревне: считать дни, волноваться, переживать… — и стараться, стараться вместе со своим мужем сохранить то, что возродилось между нами здесь, в месте, где мы были самими собой, рядом с теми, кто любил нас и хотел для нас самого лучшего, несмотря на то, что иногда это выглядело совсем иначе.
— Я скучаю по тебе, Лукьянчиков, — признавалась я вечером, когда мы созванивались по скайпу и обсуждали прошедший день.
— Ну надо же, — отвечал Костя наполовину шутя, наполовину серьезно. — Юсь, у тебя температуры случаем нет, ты нормально себя чувствуешь?
— Это намек на то, что я плохо выгляжу?
— Ты хорошо выглядишь… Даже слишком, хотя под этой кофтой ничего толком не разглядеть. — Он ухмылялся, и я уже знала, что за этим последует. — Может, снимешь?..
Мы флиртовали напропалую.
…За несколько дней до моего отъезда в Уренгой в нашей деревне случилось несчастье. Один из дружков Анчутки ударил ее ножом прямо на глазах у Евы, после страшной пьяной драки, во время которой они переломали мебель и перебили всю посуду. Степка схватил Еву в охапку и выбежал на улицу, и Фарида перепугалась до полусмерти, услышав бешеный стук в дверь и задыхающийся, срывающийся от ужаса детский голос. Она затащила детей в дом и вызвала полицию и скорую, и Анчутку той же ночью увезли на срочную операцию в Бузулук.
Ее пьяный дружок благоразумно скрылся, забрав нож с собой.
С раннего утра у Лукьянчиковых в доме горел свет, сновали туда-сюда люди в форме, сверкали полицейские мигалки. Уже в обед детей забрали в социальный приют, поскольку в деревне своего не было — в бузулукский, до возвращения Анчутки из больницы.
Говорили, что она может и не вернуться. Удар ножа повредил внутренние органы, и состояние ее было тяжелым.
Вечером к нам потянулись любопытствующие соседи: обсудить, поделиться догадками, просто поохать над судьбами детей. Происшествие по меркам нашей тихой деревеньки было страшным. Об Анчуткиных грехах тут же забыли, все переживали за нее, кто-то даже взялся отвезти в Бузулук общую от всех нас передачу в больницу. Мама напекла булочек и наливала желающим травяного чая со зверобоем и чабрецом, и соседки костерили неразумную Аньку, сгубившую свою молодость, жалели сирот, строили догадки насчет их судьбы и спешили домой, прижать своих собственных чад к груди и напомнить им, что их родители с ними и любят их.
Уже поздно вечером, когда последние сочувствующие разошлись, я, забравшись под одеяло и дожидаясь Костиного звонка, долго думала об Анчуткиных детях, о детях вообще и о том, какая все-таки неоднозначная штука — взрослая настоящая жизнь.
Мы ведь с Костей вряд ли хоть раз обсуждали всерьез вопрос о ребенке и о том, даст ли нам на него бог, как в той поговорке, если у нас родится малыш. Все это предполагалось как-то само собой: брак и сразу дитё — так было у всех, так жили все, и так было заведено не нами и задолго до нас.
Вот только в нашем браке все было не как у всех. И даже если бы бог дал нам ребенка, смогли бы мы с Костей что-то этому ребенку дать? Или мы, как Лида и Ростислав Макаровы, на ускоренных курсах лжи и притворства научились бы изображать семью ради человечка, рожденного в самый разгар нашей с Костей войны?
А может, это нашему ребенку пришлось бы учиться выживать на поле боя, как научилась выживать, спрятавшись за баррикадой безразличия ко всему миру, маленькая Ева?
Я была никудышной женой большую часть своего брака. Кто дал бы мне гарантию, что как мать я оказалась бы тогда лучше?
* * *
Костя встречал меня на перроне Уренгойского железнодорожного вокзала, куда прибыл наконец после долгих двух с лишним суток пути переполненный вахтовиками и оттого страшно шумный и провонявший водкой и соленой капустой поезд. Я не любила поезда дальнего следования особой нелюбовью именно из-за того, что часто приходилось делить вагон с пьяными мужиками, едущими на перевахтовку — а им после возлияний всегда страшно требовалось женское присутствие, — но в тот раз поездка была какой-то особенно длинной и оттого еще более ужасной.
И из-за того, что мы задержались на пять часов — уже за Сургутом в локомотиве обнаружилась неполадка, и нас остановили, пока техники разбирались, что к чему. И из-за того, что эти пять часов кое-кто скоротал за бутылкой, и в вагоне-ресторане, как и в общих, куда набились толпы знакомцев, едущих на одно месторождение, было не протолкнуться. А еще в купе было душно — чем дальше на север мы шли, тем жарче топили — и это тоже меня раздражало и заставляло считать станции и минуты и с особым нетерпением ждать прибытия.
Но только увидев на перроне стоящего чуть поодаль от толпы Костю с сигаретой в длинных пальцах, я поняла, что причина моего нетерпения была не в поезде, а в нем.
Я остановилась, пока он меня не видел, и с замиранием сердца обежала взглядом его высокую худощавую фигуру в темно-синей куртке с белым воротником и джинсах, жадно вгляделась в резкие черты лица, на которых было написано нетерпение.
Я и в самом деле так сильно по нему скучала.
Я двинулась вперед, таща за собой то и дело подпрыгивающий на неровностях асфальта чемодан на колесиках, но Костя тоже уже увидел меня и пошел ко мне быстрым шагом, едва ли замечая попадающихся ему на пути людей и почти не реагируя, когда кто-то задевал его локтем. Я влепилась в него, не замедляя шага, обхватила руками за талию и запрокинула голову, чтобы посмотреть в кошачьи глаза.
— Костя.
— Нарисовалась, — пробормотал он довольно, обнимая меня в ответ, и я улыбнулась, услышав это слово. — Ну, давай, рассказывай, как ты по мне скучала.
Вместо ответа я притянула его к себе за воротник куртки и крепко поцеловала, — и тихо засмеялась, когда через пару мгновений Костя схватил мою голову в свои руки, чтобы запрокинуть ее так, как было удобно ему, и стал целовать меня сам. Опомнились мы, только когда кто-то особенно сильно — наверняка намеренно — задел нас, проходя мимо, но даже тогда Костя не отстранился надолго: нахлобучил мне почти на глаза шапку, отобрал чемодан, и обнял меня за плечи, разворачивая в сторону выхода к вокзалу.
— Юсь, у тебя пять минут на душ, не больше. — Его горячее дыхание обожгло мне ухо, когда на ходу он наклонился ближе. — Задержишься — займемся сексом прямо там.