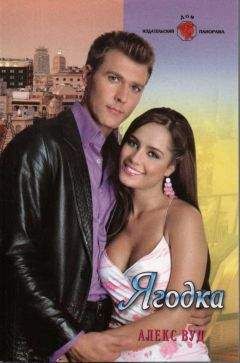Гледлид только сейчас заметила, что холеные пальцы Хорга лишились всех украшений.
– Ты заблуждаешься, считая это своим имуществом, друг мой, – улыбнулся в ответ Ктор. – У тебя нет ничего своего. И деньги, и драгоценности принадлежат нашей дражайшей Лильване, а мне от неё больше ничего не нужно.
Так он и ушёл – ни с чем и в никуда, а Гледлид всеми силами своей юной души возненавидела мать. Та, вернувшись утром домой, первым же делом приказала наполнить купель и подать её любимое душистое мыло, а на известие об уходе Ктора отозвалась лишь равнодушным небрежным кивком – будто так и надо. За завтраком мать бегло читала деловые письма и бумаги, а Гледлид впервые остро и ясно разглядела чёрную пустоту в её глазах. Пустоту вместо души.
С этого дня в доме стало запрещено даже упоминать имя Ктора, и никто не смел ослушаться приказа госпожи Лильваны. Всё хорошее, что Гледлид когда-либо чувствовала к матери – всякая дочерняя привязанность и уважение, любой намёк на душевное тепло – всё разом умерло, казнённое ледяным топором отчуждения. Осталась лишь внешняя учтивость, которую мать принимала как должное, не особенно, по-видимому, печалясь о том, что младшая дочь совсем отдалилась: она, как всегда, была погружена в работу и великосветские сборища. Часто, когда никто не видел, Гледлид перебирала листки, исписанные почерком отца, и глотала солёно-горький ком, который отзывался на каждое стихотворное слово болезненным вздрагиванием. Хорг пытался её по-своему утешить и приласкать:
– Да не пропадёт твой батюшка, пристроится куда-нибудь. Он, конечно, рохля, но по-своему мил. А какой он лапочка, когда, закатив глаза, читает свои стишочки!… Поверь мне, такие не остаются без женского внимания слишком долго.
– Уйди, не хочу тебя слушать, – только и смогла буркнуть в ответ Гледлид, отталкивая гладящую её по голове руку.
– Поверь мне, я знаю жизнь, – усмехнулся Хорг, уверенно кивая.
Через пару месяцев Гледлид увидела отца: тот привёз дрова к чёрному входу кухни. Похудевший, нищенски одетый, он, тем не менее, выглядел весёлым и спокойным.
– Вот, работаю – дрова развожу, – сообщил он. – Совсем не пишу сейчас – устаю под вечер так, что засыпаю, едва коснувшись головой подушки. Да и бумага мне не по карману, если честно. Но знаешь, дитя моё, я совсем не жалею, что покинул дом твоей матушки… Я беден, но дышится мне легче. Только по тебе очень скучаю.
– Где ты живёшь, батюшка? – принялась выпытывать Гледлид. – Я бы хотела навещать тебя… Приносила бы еду из нашего дома.
– Благодарю, доченька, я не голодаю, – покачал головой отец с прежней ласковой улыбкой. – Кусок хлеба с кружкой молока у меня каждый день есть. Но буду рад тебя видеть, родная, если ты зайдёшь в гости просто так.
Отец обретался теперь в подсобной каморке при гостинице, где он подрабатывал дворником и чистильщиком обуви. Пробовал он наняться на более чистую работу – учителем в богатую семью, но что-то не заладилось с хозяевами, и он потерял это место. Многие семьи его знали, и пойти в услужение к знакомым, которые когда-то бывали в доме на чтениях, ему не позволяла гордость… Теперь его красивые пальцы покрылись слоем неотмываемой грязи, но выражение унылой угнетённости ушло с его лица. Он успокоенно кивнул, когда Гледлид ему сообщила, что хранит его стихи, надёжно спрятав их подальше от матушкиных глаз.
– Хорошо, дитя моё, я очень благодарен тебе. Пусть они будут у тебя.
Он отказывался принимать от неё и еду, и деньги, которые выдавались Гледлид на карманные расходы.
– Всё это принадлежит твоей матери. А я больше не хочу иметь никаких дел с этой женщиной. За каждое своё благодеяние она заставляла меня платить с лихвой – унижением.
Место Ктора пустовало недолго: уже через три месяца в доме появился молодой белокурый красавец Архид. Впрочем, брачными узами мать себя с ним связывать не стала, предпочтя оставить его в качестве наложника. Юноша был бедным бесприданником – мать польстилась только на его пригожесть. Держался новый член семьи скромно и обходительно, в нём не было ни спеси, ни жеманства, ни алчности. С Гледлид он пытался подружиться, но обида на мать в сердце девочки была слишком свежа и остра, и часть этого тяжёлого чувства она перенесла на Архида.
А между тем Хорг убеждал Гледлид в своей житейской проницательности отнюдь не без оснований. Когда девочка в очередной раз пришла к отцу в каморку, там её ждало письмо.
«Здравствуй, драгоценная и единственная моя Гледлид!
Я больше не живу здесь. Судьба благосклонно и щедро вознаградила меня за все муки, кои я перенёс от твоей матери. Я встретил удивительную, тонкую, мудрую, благородную женщину, истинную ценительницу искусства. Она часто бывала в доме г-жи Л. в качестве гостьи и слушала моё чтение, и у неё есть все сборники моих стихов. Как оказалось, она – давняя поклонница моего скромного творчества. Мы встретились случайно в этой гостинице, где я предстал перед нею в неприглядном нищенском виде, чем был весьма смущён. Пожалуй, описывать подробности нашей встречи в письме будет неуместным, поэтому скажу лишь, что она незамедлительно сделала мне предложение стать её супругом. Надеюсь, ты не будешь осуждать меня за то, что я ответил согласием этой умнейшей и достойнейшей госпоже. По-прежнему очень скучаю по тебе и всегда буду рад тебя видеть, но уже по новому месту моего проживания: улица Ореховая, дом г-жи Нармад. Обнимаю тебя со всей моей нежностью.
Твой отец».
Госпожа Нармад, богатая владелица сети ткацких мастерских в нескольких городах, жила в роскошном трёхэтажном особняке в самом конце Ореховой улицы, прозванной так за кусты орешника, густо посаженные вдоль неё. Когда Гледлид назвала своё имя и цель прихода в раструб звуковода, ворота немедленно открылись, и девочка очутилась в тенистом саду с множеством мраморных статуй, уютных скамеечек, резных беседок и благоухающих цветников. Во дворе перед самым домом беспечно журчал водомёт в широкой каменной чаше.
Хозяйка встретила девочку приветливо и усадила за стол, полный лакомств и сладостей. Гледлид вспомнила эту женщину, действительно часто бывавшую у них в гостях на чтениях отца. Ни молодостью, ни красотой она не блистала, но её лицо с неправильными и грубоватыми чертами несло выражение мягкой сдержанности; небольшие, глубоко посаженные глаза смотрели проницательно и вдумчиво, а высокий умный лоб обрамляли затейливо уложенные серебристые пряди. Носила она наряд бархатно-глубокого чёрного цвета, отделанный полосатыми перьями, и высокие сверкающие сапоги.