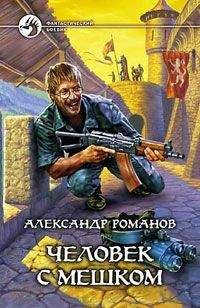— Нет, — отрезала Жюли. — Ехать на другой конец города… Вечером, после рабочего дня… Если вы находите в себе силы для подобных подвигов, это, конечно, большой плюс. Но меня уже ноги не держат.
— Поэтому вы сидели на ступеньках? — съехидничал Шарль.
— Представьте, — огрызнулась Жюли. Наконец-то она почувствовала себя достаточно раздраженной, чтобы дать отпор этому парню, который уже начинал переходить все границы дозволенного. А они все еще шли вниз по лестнице.
— Послушайте, — начала Жюли. — Я ведь не просто так согласилась на ваше предложение. Вы… — она запнулась, подбирая нейтральное слово, — бываете немного странным.
— Не могу не согласиться. Иногда окружающие видят в моем поведении нечто необычное, но, уверяю вас, это лишь внешнее впечатление. В моих поступках всегда можно проследить логику. Следует только задаться целью. К сожалению или к счастью, не знаю, но у большинства людей нет времени и желания заниматься подобными аналитическими изысканиями.
— Так вот, — продолжила Жюли. Она специально шла впереди, чтобы не смотреть Шарлю в глаза, чтобы вообще не видеть его. — Как бы там ни было, но над вами вечно все смеются. А теперь, когда вы стали… ухаживать за мной, эти насмешки, глупые шутки обратились на меня. Поймите, мне и так тяжело. Вас устраивает подобная жизнь. Вы можете не обращать на это внимания. А я… не могу. Я не в силах. Постарайтесь понять. Не нужно меня преследовать. Я не знаю, как объяснить.
Шарль остановил Жюли, ухватив ее за рукав пальто.
— А разве вам есть дело до всех этих толков и пересудов?
— Да, есть, — честно, без стеснения ответила Жюли. — Я не хочу быть объектом сплетен. Больше не говорите со мной. Не приглашайте гулять. Не предлагайте проводить. Если действительно желаете мне добра, оставьте меня в покое. — Она не смогла удержать слез. Соленые капли предательски побежали по щекам. — Я прошу вас как человека. — Она смотрела ему в глаза, впервые за этот день найдя в себе силы сопротивляться чему-либо или кому-либо. — Я каждый день иду сюда, словно на голгофу. Мне плохо. Да, вы правы. Я плакала. И сегодня. И вчера, и много дней подряд. Потому что эти стены не пропускают света. Потому что здесь нечем дышать. Потому что мне надоело все вокруг. Не делайте мою жизнь еще более отвратительной, чем она уже есть. Прошу вас. — Последние слова она почти выкрикнула. — И мне нужен не солнечный свет. Нет. Я не знаю, чего ищу, чего хочу. Отстаньте, ради всего святого. Найдите себе другую, которой будут по вкусу ваши сумасбродные выходки. Они же меня только раздражают, но отнюдь не восхищают.
По мере того как Жюли говорила, лицо Шарля становилось все серьезнее и серьезнее. Но вместе с тем оно озарялось какой-то непоколебимой решимостью, уверенностью в себе. А глаза словно разгорались неведомой силой. Огнем, ярким, способным испепелить.
— Не нужно смотреть на других, подражать им, зависеть от их мнения. Попытайтесь хоть на миг оторваться от всего этого — и вам станет легче жить.
Жюли смотрела на него. Лицо его преобразилось еще больше. Шарль словно загипнотизировал свою собеседницу.
— Но почему я? — спросила она, отводя глаза в сторону.
— Потому что вы не такая, как они. Им хорошо в их скорлупках. Поймите, одни рождаются, чтобы летать, а другим в голову не приходит поднять глаза к небу. И так должно быть. Если все воспарят к облакам, кто останется на земле? Если все срастутся с пылью, кто полетит навстречу ветрам? Мы все разные. А вы просто выбрали не ту дорогу.
Жюли закрыла уши ладонями. Слова Шарля словно проникали под кожу, просачивались между пальцев, тонкой влагой оседая на ногтях, будто прозрачная ткань.
— Замолчите, — прошептала она. — Я не хочу вас слушать. Вы сумасшедший. Все. Прощайте. Рассказывайте эти сказки другой. Прощайте. — Она вырвала руку и побежала вниз. Быстрее. Быстрее. Ступеньки замелькали у нее перед глазами подобно разноцветным флажкам карусели.
Шарль перегнулся через перила и закричал:
— Ваша скорлупа дала трещину, мадемуазель! Можно убежать от меня. Можно уволиться с работы, но нельзя обмануть саму себя. До понедельника. Обдумайте мои слова. Я уверен, вы лучше разберетесь в них на досуге.
Жюли бежала вниз, закрыв уши ладонями, а его голос проникал в самое сердце.
— Но ведь он делает это ненавязчиво. Знаешь, за последнюю неделю ажиотаж вокруг вас довольно заметно поутих. Я думаю, причина именно в его предприимчивости.
Подруги вышли с площади Дотрэ и пошли вниз по авеню дю Мэн. Уже начинало темнеть, зажглись фонари, в небе поднималась луна, переливаясь осколками отражений в огромных стеклах «Мен-Монпарнаса», оставшегося позади. Гудели машины, проносясь мимо бешеным потоком.
— Тебя оставили в покое, — продолжала Натали, — и это главное. А теперь я советую тебе присмотреться к этому парню повнимательнее. Ты знаешь, с тех пор как он побрился…
— Не вспоминай, — улыбнулась Жюли. — Если бы ты знала, чего мне стоило это преображение. Он ведь сбрил бороду в пятницу, а когда в понедельник явился, все, разумеется, приписали перемену в его внешности мне. Ему никто ничего не сказал, а вот я целый день выслушивала горячие и радушные поздравления: «как тебе это удалось?», «когда думаешь заняться его гардеробом?», «а ты не пробовала расчесать его шевелюру?». Или «поздравляем, доктор, пациент пошел на поправку». Ужасно. Они весь день язвили. Но…
— Что «но», договаривай, — потребовала Натали.
— Я не могу описать, но к вечеру — нет, даже к обеду — мне вовсе не было обидно за эти замечания. Может, немного неловко. Но не обидно.
Весна уже полностью вступила в свои права. За последнюю неделю так потеплело, что на деревьях стали лопаться почки.
— Наверное, сейчас особенно красиво в Версале. — Жюли глубоко вдохнула свежий вечерний воздух.
Подумать только, еще неделю назад ей был не мил весь свет. А сегодня она каждой клеточкой ощущала если не счастье, то хотя бы удовлетворение. «Роман» с Шарлем, так раздражавший ее, ушел, как говорится, на дно. Вняв просьбам Жюли, он перестал преследовать ее на людях. Никаких знаков внимания. Только утреннее «доброе утро» и вечернее «до завтра».
Следствием этой перемены было прекращение всякого рода пересудов в отделе. Шуточки и остроты почти исчезли. По крайней мере сегодня Жюли услышала лишь одну в свой адрес, да и то скорее направленную на философское понимание любви, а не на частное ее проявление в отношениях Шарля и Жюли. Внешняя сторона дела сгладилась, а если быть точнее, то и вовсе исчезла. Шарля по-прежнему считали чудаком, подтрунивали над тем, что он сбрил бороду, а Луи, как обычно, гонял его за опоздания.