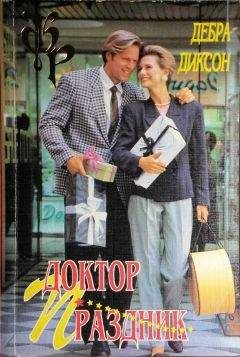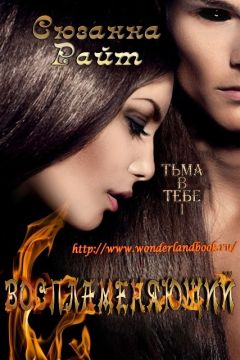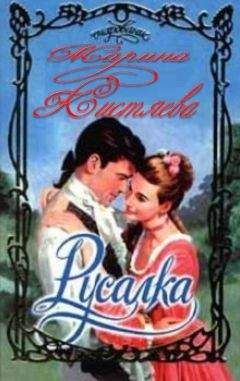Собран откупорил вторую бутылку вина.
— Прошлым Рождеством умер граф, упокой Господь его душу, — сказал он между делом. — Наследником он оставил сына племянницы, хотя в Венеции у графа живет дочь, служившая фрейлиной при императрице Жозефине и потому не вышедшая замуж. Мальчику сейчас десять лет. Его мать, Аврора де Вальде, просила меня пока присмотреть за производством вина в Вюйи.
— Ты согласился?
— Да. На тамошние дела у меня уходит всего полнедели. К тому же Леон сейчас здесь, а Батист выполняет почти всю мужскую работу.
— Хорошо. Видишь, что дал тебе погреб. И накопленное знание.
— А еще — граф, который не побрезговал дружбой со мной. — Собран протянул ангелу бутылку. — Попробуй. Это вино того года, когда я был в России. Когда был дождь.
Они выпили. Собран, поставив бокал на стол, сказал:
— Я очень везучий человек. Не хочу искушать судьбу, но временами мне кажется, будто счастливее меня никого нет. Я богат, здоров, у меня любящая семья. Со мной дружишь ты. Однако подо всем этим моим счастьем есть основа. Знание. Все люди обладают верой, а я — знанием. Я знаю тебя и потому знаю, что если вести чистую жизнь, окружив себя добрыми людьми — а каждый из нас не без достоинства, благочестия, — то, несмотря на отчуждения вроде ссоры, разделившей меня с братом, или расставание, длящееся почти всю мою жизнь, с почившими: с Батистом Кальманом, с родителями, с Николеттой — пусть я потерял их сейчас, горюю по ним… я знаю: на Небесах я вновь обрету тех, кого люблю и любил.
Ангел посмотрел на восток, туда, где на горизонте полоска пурпура венчала верхушки холмов.
— Меня, — сказал он, — ты на Небесах не найдешь.
Воздух будто взорвался тишиной — густой, бурлящей, гнилой тишиной. Собран, онемев, смотрел на Заса.
— Не все ангелы приходят с неба, — пояснил гость, — Я — падший ангел.
Зас ничуть не изменился в глазах Собрана, но мир вдруг померк или выпал из сознания винодела. Упал стул — тот, на котором сидел мужчина. Собран встал, крепко ухватившись за край стола, так что ногти расщепили дерево. Лицо ангела оставалось тем же самым — спокойным и рассудительным, внимательным — таким, каким Собран увидел его в ту первую ночь.
Зас протянул руку.
Собран побежал. Собственное тело, его мускулы показались вдруг шматами мяса — постаревшего, неприглядного мяса.
Влетев в дом, Собран запер дверь на засов и, подобно сумасшедшему или раненому зверю, ищущему уединения, спустился в погреб, засел там среди лука, картошки, яблок и банок с солениями. В темноте Собран заплакал, упершись лбом в деревянную опору и зажав руками рот.
Когда домашние нашли Собрана, тот уже избил себя до синяков. Ничего не говоря, глава семейства только сидел на полу, раскачиваясь взад-вперед.
Винодела отнесли в спальню, уложили в кровать и позвали остальных родственников, врача и отца Леси, чью руку Собран держал, пока священник молился. Слова молитвы казались песчинками, проскальзывающими сквозь пальцы сжатого кулака: «Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой; извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои»[26]. Собран боролся, теряя связь с миром, и чудилось ему, будто он лежит в могиле, а сверху уже сыплются комья сухой земли.
Стол под деревом и все, что было на нем: прокисший сыр, поклеванные птицами фрукты, опрокинутая бутылка вина и два бокала (один пустой, со ступенчатыми следами красного вина, второй — едва пригубленный) — нашли Антуан и юный Батист. Мальчик взял оба бокала и рассмотрел их: на одном увидел жирный след нижней губы, с трудом угадав, что из этого бокала пил отец, а на втором — след губы полной, нежной.
— Кто из него пил? — спросил Батист у дяди.
Каменщик решил, что пила из него Аврора де Вальде. Мужчины и женщины, бывает, поддаются безумию. Вслух Антуан велел племяннику очистить стол.
В тот же день каменщик обыскал виноградники Жодо и Кальман в поисках трупа. Мысли путались, он не знал, о чем и думать. Затем, два дня спустя, Аврора де Вальде прислала письмо, в котором справлялась о здоровье Собрана. Она слышала, будто он занемог. К концу же недели приехала сама — стройная, в сером шелковом платье, скрыв лицо под вуалью. Войдя в дом, графиня сняла перчатки, словно намереваясь тут же пройти в комнату к больному и выяснить какой-нибудь деловой вопрос. Софи предупредила, что лучше к Собрану сейчас не ходить: он сам не свой, да к тому же с ним священник.
Аврора прикрыла рот рукой.
— Мой брат будет жить, — успокоила Аврору Софи, — но только если проявит к тому волю. А он даже не ест, все только молится.
Загородив собой проход на лестницу, Софи держала перчатки графини, пока та надевала шляпку и завязывала ленточку. В этот момент наверху показалась Селеста. Госпожа Жодо не поздоровалась с графиней, не выказала совершенно никаких знаков внимания и приветствия. Она только смотрела на незваную гостью и скрипела зубами. Авроре показалось, что еще чуть-чуть — и хозяйка дома задает. Забрав у Софи перчатки, Аврора поспешила вон.
Темный коридор. Длинный и полный ужаса.
Собственные мысли причиняли боль, а когда одним утром Собран проснулся и огляделся, то увидел рядом с кроватью Селесту — жена сидела в кресле и штопала чулок, но какого цвета, Собран определить не смог. Красного ли? Из тех, что носит Мартин? Винодел изо всех сил постарался вспомнить младшего сына в школьной форме, однако цветов не различал. Не различал никак: сидя в темно-серой комнате, он видел только светло-серую тень солнечного света на покрывале. Селеста резко поднялась из кресла и пронзительным голосом позвала Софи.
Сжимая в руках четки, Собран велел женщинам накрыть на стол.
К печали родных, друзей и к тайной скорби отца Леси, с которым Собран проводил теперь так много времени, он изменился. Родные и близкие видели, как ранними воскресными утрами — даже в середине зимы — он отправлялся в церковь на службу. Одеваться винодел стал только в черное и белое, а к рубашке прикалывал крестик. Подобно протестантскому главе семейства он вечерами читал домашним Библию. Темнота стала ему противна, и, если случалось возвращаться с виноградников после заката, он подзывал сыновей. Пребывая в Вюйи, Собран запирался в комнате, не гася ламп, и не пил больше вина с Авророй де Вальде в кабинете управляющего поместьем, как раньше, до болезни. У себя дома он ложился спать, не гася свечу и не веля гасить ее Селесте, — и неважно, что свет резал ей глаза даже сквозь закрытые веки.