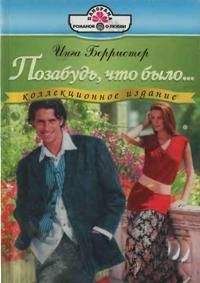Так мне казалось, но глаза твердили, что я распластан по земле, а Лан лишь едва покачивается, мягко улыбаясь и покусывая губу. Ее лик был где-то высоко-высоко, за облаками. Я протянул к ней руку, но не смог достать. Нельзя достать до вершины горы, когда видишь ее целиком. А я видел ее всю — гибкую, горячую. Сочную.
Зверь внутри меня взвыл. Он умирал от жажды и требовал, чтобы ему дали впиться ей в глотку, рвать и раздирать на куски. Я бы ему позволил, но наше тело было смято и раздавлено ею. Она делала с ним, что хотела, а я не мог сопротивляться. В ушах загудело, перед глазами заплясали искры. Меня волнами захлестывало болезненное наслаждение. Из правого глаза текли слезы.
— Молись, — донесся до меня ее голос, с трудом пробившись сквозь чудовищное расстояние, что разделяло нас.
— Нет, — я жалко замотал головой, захлебываясь собственным стоном. Мир вокруг грохотал и продолжал расти, небо давило на меня. Крик летящего по нему дракона бил по нервам.
— Молись, — повторила Лан, стремительно приближаясь ко мне сквозь тысячи верст, что уже разделяли нас. Одно мгновение, и она впилась в меня поцелуем, не давая возразить. Она была так тяжела, так неимоверно велика и настойчива, что я начал задыхаться. Нужно было сделать, как она велит, пока я еще жив.
С этой мысли я начал свою молитву. Остальные стали подтягиваться, закрутились в бурном водовороте. Лан прервала поцелуй, я сделал судорожный вдох, вдыхая вместе с ним весь мир. И эта мысль тоже ушла в шар. А потом целая серия унизительных мыслей о том, как мне хорошо, о том, как я ничтожен, как велик и прекрасен мир вокруг, о том, как я хочу ее, даже будучи уже в ней, как я ее ненавижу, как я хочу ее смерти, как прекрасны ее глаза, как мне стыдно, какой я трус, что даже не сумел покончить со своей жалкой жизнью, как я поражен видом дракона, летающего над нами, как чудесно пахнет трава, как я не хочу возвращаться домой, как я боюсь позора, как скучаю по родным. Как я хочу иметь свой дом, далекий от всего этого.
Шар покинул меня в тот же момент, как я кончил. Лан с по-детски радостной улыбкой протянула к нему руку, но не тронула, позволив подняться вверх. Я, совершенно обессиленный, смотрел, как он поднимается к облакам. Смотрел, как в нем переливаются все возможные оттенки. Он даже был почти прозрачным, в отличие от предыдущего, и поднимался вверх куда веселее.
— Вот видишь: все не так уж плохо, — сказала Лан, ложась рядом так, чтобы устроить голову у меня на плече. Пальцы на моей руке непроизвольно дернулись, коснувшись ее спины и словно бы проверяя, не мерещится ли мне все это. Больше ни одна мышца в теле не шевельнулась. Только сердце громко стучало, постепенно успокаиваясь, да грудь тяжело вздымалась, качая воздух и не давая мне умереть. Что это было?
Мы лежали так очень долго. Я даже, наверное, задремал, потому что вечер подкрался как-то неестественно быстро. А может быть, я просто толком так и не пришел в себя.
— Эстре, вставай, — сказала Лан, поднимаясь. — Нам пора обратно.
Я тяжело вздохнул, представляя обратный путь, поднялся и охнул: ступни у меня горели, и было такое чувство, будто я стою на битых стеклах. Лан сочувственно покосилась на меня, но взяла за руку и повела в обратную сторону. Напоследок я все-таки оглянулся, и увидел, что над гнездом возвышаются два огромных дракона, прикрывающих своих малышей крыльями. Они глядели на меня, и от этого взгляда хотелось провалиться под землю.
— Не смотри, — сказала Лан, закрывая мне глаза руками, чтобы я мог отвернуться. — Не тревожь.
Мы пустились в обратный путь.
Не помню, как дошел. Это была какая-то бесконечная пытка. Всю дорогу я снова смотрел только под ноги и считал, считал, считал шаги. Сбивался и снова считал: мне просто нужно было чем-то заполнить голову, чтобы не показывать окружающим, как мне больно. Впрочем, когда мы подошли к городу, ноги у меня уже онемели, но я продолжал все так же бездумно считать шаги, будто в трансе, и смотреть под ноги. Вот тропа сменилась выпуклыми камнями мостовой, вот доски крыльца, паркет, блестящий мрамор, снова паркет, потом гладкие доски, утоптанная земля, снова доски, ковер… Ковер?
Я, наконец, поднял голову. Перед глазами у меня все плыло, и по-прежнему мерещилась уходящая вниз дорога.
— Искупаться не забудь, — сказала Лан, чмокнула меня в щеку и вышла. А я еще долго не мог понять, что вернулся домой. Потом все-таки немного пришел в себя и пошел в купальню. От голода кружилась голова, хотя при мысли о еде начинало тошнить, и я старался думать о чем-нибудь другом. За окнами уже стемнело, но в соседнем саду не горели костры. Чистый день — чистая ночь.
Печь в купальне была не топлена. Разумеется: кто, кроме меня, будет этим заниматься? Но у меня не было сил, так что я, как мог, помылся в холодной воде. Впрочем, от этого была определенная польза: в голове у меня прояснилось, головокружение прекратилось, но при этом почти сразу смертельно захотелось спать. Едва добравшись до кровати, я рухнул на нее и моментально уснул.
Глава 7. Доверие Великой Матери
Мне снились сиделки — так я называл своих ночных служанок. Вообще-то, после заката во дворце моего отца всегда дежурили мужчины: отец считал, что принуждать женщин к ночному бдению — некрасиво. Но когда мои похождения приобрели небывалый масштаб, отец, скрепя сердце, назначил мне персональных служанок — из наименее болтливых и при этом покорных. Для них в моих покоях стояла софа, и им совсем не нужно было бодрствовать по ночам. Я редко пользовался ими как любовницами. Чаще действительно гонял на кухню за чашкой чая посреди ночи или жаловался им на жизнь. Женщин такое положение дел вполне устраивало, ведь им неплохо платили. Но иногда я все-таки затаскивал то одну, то другую к себе в постель — например, когда ждал, пока Шаард выдаст замуж мою очередную пассию.
И сегодня они мне приснились. Все шесть. Они приходили по одной, поправляли одеяло, интересовались, не нужно ли мне чего. А я не мог и пальцем шевельнуть, хотя мне ужасно хотелось пить. Я пытался строить им рожи, но они почему-то не понимали. Только последняя — самая взрослая — заметила, что со мной что-то не так.
— Вам жарко? — спросила она, участливо склонившись надо мной. Я кивнул, разглядывая ее дурацкий кружевной чепчик. Она откинула с меня одеяло. Постояла немного, а потом присела рядом на край кровати. Это было странно: обычно сиделки себе такого не позволяли. Я хотел сделать ей замечание, но понял, что ни слова не могу произнести: глотка просто слиплась от жажды. Тогда я попытался встать, но не сумел, и только вяло зашевелился.
— Не спится? — участливо покивала она, наблюдая за моей жалкой возней. — Опять об ЭТОМ думаете?
Я думал о том, что где-то на тумбочке стоит кувшин с водой, но не мог ни сказать, ни показать, хоть и очень старался. Поглядев на мои трепыхания, женщина сделала какие-то свои выводы, глупо захихикала и принялась развязывать воротник своего платья, приговаривая:
— Эстре, шалунишка, ты ведь об этом пожалеешь!
Она развязала воротник, и платье некрасиво оползло, свесившись с плеча. Она тут же выпуталась из рукавов, отчего лиф и вовсе повис, удерживаемый только невысоким корсетом. Сиделка вытянула из него большую грудь с расплывшимися сосками и потянулась ко мне с поцелуем. Я хотел уползти или хотя бы увернуться, но мне это не удалось. Она прижалась к моему рту потрескавшимися губами. Я стиснул зубы, но ее сухой язык как-то умудрился разжать мне челюсти. Извиваясь, как змея, он зашарил у меня во рту, стремясь пролезть в глотку. Я закашлялся и начал задыхаться. Ее язык был таким длинным и при этом сухим, что забирался всюду, прилипая и отнимая у меня остатки влаги. Когда я уже почти задохнулся, он вдруг исчез.
— Пить хочешь? — сочувственно спросила она. — Ну извини, молока пока нет. Вот через несколько месяцев…
И сиделка вдруг превратилась в Хель. Вокруг кровати встали ее дети, наблюдая, как мать скользит губами по моей голой груди, спускаясь все ниже и ниже.