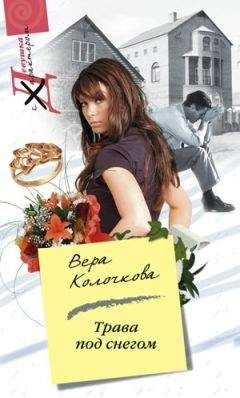Честно говоря, я была морально готова воспользоваться обнаруженной «уборной» прямо сейчас, наплевав на собственное стеснение, но не пришлось: тюремщик вышел, оставив меня в одиночестве.
Собственно, в таком режиме и потянулись дни. Кормежку организм принял благосклонно, непосредственная угроза жизни отсутствовала, и я ощущала, что медленно и верно превращаюсь в растение. Единственным посетителем оставался все тот же молчаливый страж (или не тот же, просто лицо у них было одно на всех), приносивший еду. На удивление, та даже отличалась некоторым вкусовым разнообразием; тетиных разносолов, конечно, жутко не хватало (как и самой тети, и всех остальных, но думать о них я попросту боялась), но и тошнить от местного йогурта меня пока не начало.
Если бы не скрипка, я в этой одиночке без права посещений совсем тронулась бы умом или в лучшем случае впала в спячку, а так… тоже, кажется, тронулась, но не совсем, да еще в знакомом, почти привычном направлении.
Я готова была поручиться, что эта комната – точнее, то, частью чего она являлась, – живое существо в не меньшей степени, чем наш корабль. А может, и в большей. Наверное, столь пагубно на мне сказались замкнутое пространство и отсутствие хоть каких-то собеседников, но в конце концов я начала разговаривать со стенами. Они пока, к счастью, не отвечали (по крайней мере, вербально), но звук собственного голоса успокаивал. И музыка тоже успокаивала. Я в жизни своей никогда столько не играла, как в этом заточении. Жалко, не было возможности прихватить с собой ноты; могла бы разучить кое-что новое, давно собиралась. А так приходилось повторять старое или импровизировать. Получалось простенько и примитивно, но… я же не на концерте, правда!
Как обычно увлекшись и забывшись, я в который раз играла одно из своих любимых произведений, когда мое уединение оказалось нарушено. Причем поняла я это по странному низкому звуку, внезапно вклинившемуся в мелодию. Не диссонансом, очень органично, как будто меня вдруг поддержала виолончель или даже контрабас. Вот только музыкантов поблизости не наблюдалось.
Вздрогнув от неожиданности и распахнув глаза, я встретилась с уже почти привычным стеклянным взглядом неестественно зеленых глаз тюремщика и поначалу даже отшатнулась, прижавшись спиной к стене. Однако никакой агрессии это существо не проявляло, только пристально наблюдало за мной, замерев напротив в точно такой же позе – на коленях, сев на пятки и расслабленно положив ладони на бедра. Вновь послышался тот самый звук, почти идеально повторивший несколько последних тактов, и меня осенило: его явно издал мой тюремщик!
Я медленно подняла скрипку и взяла пару нот, не сводя пристального взгляда с собеседника, и тот незамедлительно ответил, повторив те же ноты парой октав ниже. Еще несколько нот – тот же ответ, и я потихоньку успокоилась. Поведение было странным и неожиданным, но вызывало не страх, а интерес. Тут же проснулось любопытство: он осознанно повторяет эти звуки, действительно подпевает или ведет себя как пересмешник, попросту копируя по мере сил?
Я начала прерванную пьесу сначала. Пару тактов собеседник молчал, потом начал тихонько повторять нотный узор, а под конец я с искренним недоумением поняла, что он действительно подпевает. То есть не просто обезьянничает, а в полном смысле играет собственную партию. Звучало странно, но, если вдуматься, не так уж неестественно. Очень походило на то, как человек тихо мычит мелодию себе под нос. Некоторое время продолжался этот тихий дуэт, причем каменное выражение лица неожиданного партнера за это время ни разу не изменилось, а взгляд продолжал сверлить меня. Но это не раздражало, наверное, потому, что никак не получалось воспринимать собеседника живым.
Я так увлеклась этим странным развлечением, что совершенное между делом маленькое открытие меня даже не напугало, хотя могло. Оказалось, что существо все-таки моргает, только редко. Правда, делало оно это тонкой пленочкой третьего века. Такой же черной, как все остальное тело.
В общей сложности концерт продолжался около получаса и закончился так же неожиданно, как начался. По счастью, без каких-либо трагических потрясений. Просто чужак вдруг замолчал на середине такта и резко поднялся на ноги, после чего решительно вышел через тот же участок стены, через который выходил обычно. Проводив его озадаченным взглядом, я растерянно качнула головой в такт своим мыслям. После чего, опустив вниз глаза, обнаружила миску с едой рядом с тем местом, где тюремщик сидел. То есть он приходил по привычной надобности, но случайно услышал мою музыку и решил подпеть?
Я отложила скрипку и взяла в руки миску с уже заранее заботливо сформированным носиком. Рассеянно глядя прямо перед собой, пыталась вспомнить, слышал ли когда-нибудь «кормилец», как я играю, но так и не смогла дать на этот вопрос утвердительного ответа. Несколько раз он заставал меня со скрипкой, вот только я, кажется, либо именно в этот момент ничего не играла, либо осекалась тут же, как только он появлялся. А сейчас просто не заметила. Если только он не был тем самым, который на «Лебеде» вывел меня из двигательного отсека.
Интересно, чем подобное может грозить? Не является ли у них музыка, например, согласием быть принесенной в жертву? Или вызовом на своеобразную дуэль, которую я проиграла и теперь должна умереть?
Вариантов выплыла масса, но я решила принять за основу наиболее оптимистичный: что музыку они воспринимают просто как музыку, без лишних экивоков.
Окончательно развеять сомнения мог следующий визит тюремщика, но не развеял, а, напротив, только усилил беспокойство. Потому что еду мне в следующий раз принесли в тот момент, когда я спала. И в следующий – тоже.
Похоже, совместные музицирования все-таки привели к негативным последствиям. Не для меня – в моей жизни ничего не изменилось, скрипку у меня не отбирали и голодом не морили, – но, кажется, для моего излишне любопытного надзирателя.
Глава четвертая,
в которой я начинаю совершать открытия и пытаюсь наладить контакт
Я очень быстро окончательно потеряла счет времени. Оказалось, очень просто сделать это, лишившись каких-либо ориентиров. С равным успехом с момента моего заключения в эту живую клетку могла пройти и неделя, и месяц. Все время, что не музицировала и не мерила шагами комнату, периодически развлекая себя легкой разминкой, чтобы совсем не скиснуть, я спала, а во сне следить за временем тем более трудно.
На втором месте после удушающего одиночества и безделья стояла проблема чистоты волос. Это с телом благодаря одежде не возникало никаких проблем, а вот возможности нормально помыть голову не было: вода имелась в неограниченном количестве, вот только мыла мне никто не предложил. Приходилось довольствоваться простым, но весьма продолжительным полосканием «под краном». Проблему оно не решало, но, по крайней мере, я могла честно сказать, что сделала все возможное. Да и ощущение мокрой головы казалось гораздо приятней ощущения грязной головы.