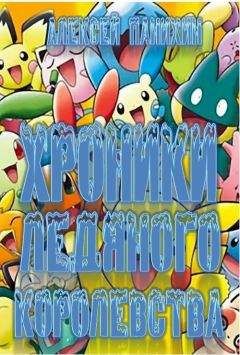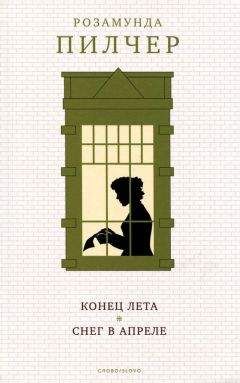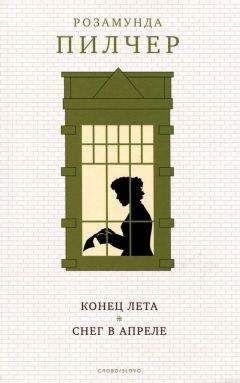— Истина в вине. В наркоте, — зло рассмеялся он.
— Слушай. Если ты дашь одному из племени дроуи малую часть своей алой жидкости, он воспрянет и доживёт до примаверы, первой зелени, но что случится с ним позже — не ведомо никому. Свои таких назад не принимают, и от весеней им больше не пить. Они ведь пьют сок, как мы от берёзы, ты слышал? Да ничего ты путного не слышал.
— А ты-то сам, Михал, откуда узнал? — он недоверчиво покачал головой. — Хорошие собеседники завелись?
— Не такие уж скверные, — ответил я. — Хочешь, чтобы я продолжил? Так вот. Половина твоей крови означает, что вы разделите пополам одну твою жизнь и, пожалуй, телесную форму. Не ум, не сердце и не бессмертие. Это я говорю на случай, если ты веришь в последнее.
— Такое я могу, — ответил он. — Настолько я уже спятил.
В самом деле: заходя в его каморку, я видел несколько пар туфель самого разного размера: из тех, что ныне в большом ходу, но явно на его ногу не рассчитанных. Куда меньше. Женского носильного платья там, насколько могу судить, не было.
Санни же тем временем рассуждал:
— Потом, моя личная жизнь и так еле во мне держится. Гнилой ниткой пришита, ржавым гвоздиком приколочена. Велика малышке прибыль — полгода в дар получить. Вот если всё до капли, что во мне имеется…
— Не изображай из себя безумца худшего, чем ты есть, — перервал его я. — О смертном грехе уж не говорю — ты и сих слов, поручусь, не ведаешь. Но кровь из порезанных запястий течёт, пока бьётся сердце. Умирают, не будучи выжатыми досуха. В горячую ванну садиться тоже не рекомендую, даже если потратишься — купишь: твоей зверюшке отнюдь не крашеная вода потребна. Да, они по сути те же белочки с лесным орехом вместо мозга, ты это понимаешь? Не люди. Даже не сказочные эльфы, пускай и тёмные. Где ты, кстати, встречал светлых?
Так мы препирались, а сама «зверюшка» еле заметно усыхала, члены скрючивались (я так думаю, по причине того, что вокруг тельца образовались полости), кожа становилась похожей на древний пергамент, волосы — если их можно было так назвать — редели и выпадали.
Александр забросил службу, потребовав себе бессрочный отпуск (дали нимало не прекословя), и начал пить горькую. Мне надоело, навещая его и дроу, которую он также перетащил к себе из прихожей, разбрасывать ногами жестянки дрянного энергетика, «чинарики», разовые шприцы и порожние аптечные скляницы.
Наконец — произошло это ранним утром и в самый разгар зимы — я не выдержал.
— Ты хотел точной информации? — заговорил на языке, ему понятном. — Тогда слушай внимательно. Второй раз повторять не буду — и так всё на пределе. Дроуи необходимы они обе: кровь и пневма. И сразу. И столько, сколько он или она возьмут сами.
Юнец приподнял голову с грязного, неприбранного ложа, на котором простёрся, и встретился со мной глазами. Правой рукой он как бы в забытьи обнимал роковую ледышку.
— Сначала не употребляй никакой своей пакости хотя бы этот день до захода солнца. Стоило бы и больше. А ещё лучше — и вообще не связываться.
— С чем — с твоей процедурой? — Санни презрительно искривил губы.
— С зельями, — ответил я. — Они не у одного тебя отшибут интеллект и ориентацию в пространстве-времени. Далее идёт самое трудное. Во всяком случае — для нормальной человеческой особи. Возьми прямую, остро заточенную спицу. Можешь трудиться над ней всё время предписанной тебе абстиненции. Обеззараживать не стоит: хоть капля спирта, а лишняя. Разве что прокали на огне. И пропусти через язык насквозь.
Он даже поперхнулся.
— Неужели так страшно? Кое-кто из ваших к этому месту серебряное колечко цепляет. Как там его — пирсинг. Так вот. Когда потечёт кровь, прислони губы к хрусталю и дыши — из уст в уста, как ради утопающего. Если суждено пронять — проймёт.
— Только это ещё не конец, верно? — Александр слушал со вниманием, воистину пристрастным. — Я ведь с того умру?
— Дроуи — сущие пиявки, — ответил я, — Эта вмиг разобьёт ставшую хрупкой оболочку и поднимется.
— Спящая красавица из сказки, — кивнул он. — «Перед ним, во мгле печальной, гроб качается хрустальный».
— Повиснув на твоём языке, — продолжил я неколебимо. — Твой великий тёзка того не предвидел. Со стороны это будет похоже на страстное лобзание.
— Вампира, — хмыкнул он.
— Нисколько. Ибо она будет расти, пока не достигнет обыкновенного человеческого роста, и поглощать ей придётся всего тебя. Ты будешь умаляться — может быть, до её прежнего состояния, но, скорее, обращаться в некое подобие падшего листа.
— А что будет потом? Не со мной — ладно, я мало что значу. С ней.
— Она не будет помнить практически ничего из прежних времён. Тем более того, что произошло между ней и тобой в зыбком, лихорадочном полусне. Сохранятся некие изначальные реакции — к примеру, защитная, которая заставит её уйти как можно дальше из той каморки, темницы или капсулы, в которой она по причине тебя самого окажется. Но ты — покинув тело, ты станешь пленником иной темницы. Будешь заключён в плоть дроу — но до неё самой тебе не достучаться. Одному — не отыскать пути. Разве что сможешь самую малость направлять.
— То есть — я сохраню жизнь?
— Если это можно назвать жизнью, — на моих губах появилась усмешка, вроде бы не совсем добрая. — Сам, кстати, в том будешь повинен, отравитель невинных. Быть на долгие годы, возможно, столетия, заточённым в чужом теле… Возможно, теле прекрасном и неистребимо тебе желанном… А теперь думай. Я ухожу.
Но стоило мне оборотиться к выходу, как меня позвали:
— Михал!
— Что тебе?
— Михал, не то время, чтобы нам объясняться. И я — не тот человек, чтобы предъявлять обвинения. Только все это… ну, дурь, спирт и прочие радости… я потреблял, чтобы провести чёткую границу между мной и тобой. Дабы ты не лип ко мне ни с чем, кроме как с читкой морали.
— Что? — я не понимал и в то же время понимал великолепно. Мы оба казались поражены одним и тем же недугом.
— Я ведь чётко понимал, что ты не пед, как я, — он рассмеялся. — Чинный, чванный, старомодный зануда с заковыристыми фразками и невообразимыми манерами… И такой лощёный красавец от силы лет тридцати пяти. Мне далеко до тебя, правда-правда.
— Не надо сейчас — об этом, — попросил я еле слышно. — Если не хочешь — не делай ничего из описанного. Как-нибудь обойдётся.
— Не обойдётся, — он вздохнул. — Ты мне одно растолкуй: откуда ты всё знаешь? Сын Господень на ушко шепнул или его всегдашний противник? Мне-то всё равно.
— А мне — нет, — ответил я, застыв на самом пороге. — Не бог, не царь и не герой: простая дворянская барышня из поместья, которое стояло на берегу вот этого самого пруда почти два века назад. Однажды поздней осенью ей на глаза попалось ровно то, что и тебе: выпуклость на гладком льду. Кажется, они с любимым братом на коньках по льду бегали, и она зацепилась носком. Едва не упала. Ну и — влюбилась в такого же, как ты, безмозглого дрова. А уж кто ей подсказал ритуал, не знаю. Мамушка, нянюшка, двоюродная тётка, которая страх как боялась, что иначе расцветёт кровосмесительная связь… На доброго ловца и зверь бежит.