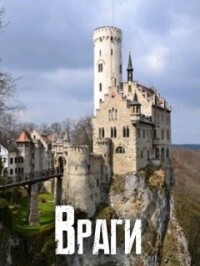Звезды и в самом деле были прекрасны — огромные, яркие, они, казалось, висели над самой головой, протяни руку — и достанешь. Только очень быстро я обнаружила, что любуюсь вовсе не звездами, и не волнами. Смотрю, как ветер треплет черные волосы. Изучаю сосредоточенное лицо. Наблюдаю, как, зайдя в каморку за штурвалом, он склоняется над столом и что-то пишет, а потом едва заметно хмурится, разглаживая ладонью карту. Вслушиваюсь в глубокий бархатный голос, произносящий непонятные слова.
В самом деле, да так ли сложен выбор, о котором я совсем недавно размышляла?
Я загнала эти мысли вглубь сознания. Не разум говорил во мне сейчас — глупое сердце, которое однажды меня уже подвело.
И все же, когда Генри склонился над моей рукой у двери моей каюты, я отчаянно жалела, что в коридоре дежурит вестовой, при котором следовало соблюдать видимость приличий.
Какое-то время — я перестала считать дни, одинаковые, и они слились — ничего не происходило. Словно утомившись после недельного буйства, ветер стих, едва наполняя паруса. Впрочем, ни Генри, ни лорд Коннор не выказывали беспокойства: по их словам, мертвый штиль бывает крайне редко. Такой ветер, как сейчас, хоть и едва ощущается, все же несет корабль, а судя по тому, как меняется зыбь, вскоре будет и ветер. А пока можно спокойно починить то, что поддается починке, и отдраить все остальное. Чем команда и занялась под неусыпным наблюдением боцмана. Правда, восторгов на лицах я не видела, а пару раз замечала, как кто-нибудь из матросов украдкой скребет ножом мачту. «Призывает ветер, — пояснил Генри. — Морское суеверие».
Вскоре команда перестала шарахаться от меня, и, удивительно, но сальных взглядов тоже стало меньше. Когда после шторма жизнь на корабле вошла в обычную колею, матросы обнаружили, что раны, залеченные мной, затянулись, тогда как зашитые Дезо почти все гноились, не давая покоя. Один за другим люди потянулись ко мне. Где-то оказалось достаточно просто убрать воспаление, подстегивая заживление тканей, а где-то пришлось снимать швы, давая отток гною, промывать и только после этого сращивать, поминая недобрым словом тех, кто учил покойного хирурга. А может, учили его хорошо, да не всему он научился — Дезо ведь в самом деле умел отлично работать скальпелем и иглой, но совершенно не обращал внимания на чистоту. Как-то не выдержав, я спросила об этом у Генри, и тот усмехнулся.
— Когда мы с Джеймсом нанялись на этот корабль, он кишел крысами так, что они бегали по людям в любое время суток… — Меня передернуло, а он продолжал: — А в похлебке всплывали черви — жидкости не было видно под ними.
— Брр… И ты это ел?
До чего же все-таки живучее создание — человек.
Кажется, моя реакция развеселила Генри.
— Не ел. Не смог. Пришлось нам с Джеймсом поднимать бунт, брать власть в свои руки и наводить порядок — пока мы с ним не умерли от голода. Перехватив командование, мы срочно пристали к ближайшему населенному берегу, вышвырнули все запасы еды, выдраили трюм и наполнили кладовые заново. Но если Дезо привык к подобным условиям…
Он не договорил, но я поняла сама. А заодно и поняла, почему команда готова была носить на руках лорда Коннора: нужно совсем уж лишиться достоинства, чтобы, пожив в человеческих условиях, снова по доброй воле опускаться до скотского состояния. Но на корабле у команды не было выбора: живи, как решают командиры. Именно квартирмейстер первым пробовал еду, следил за тем, что происходит в кубрике — помещении, где жили матросы. И он же шел вместе с ними на абордаж, разя врагов магией и клинком.
Несколько дней ко мне тянулись со старыми ранами и застарелыми болезнями: сорванной спиной, сведенными судорогой руками, растрескавшейся до мяса кожей. Потом паломничество прекратилось. То, что можно было заживить с помощью моей магии или лекарских снадобий, зажило, с чем-то справиться мог лишь всевышний, о чем я честно говорила сразу. Еще день я потратила, перебирая запасы и книги покойного лекаря — его личные вещи раздали команде, как и водилось среди пиратов, но сундучок с зельями, записи и медицинские трактаты капитан забрал себе а теперь передал мне.
Самым драгоценным (в обоих смыслах этого слова) в запасах покойного лекаря оказались «пилюли бессмертия» — по крайней мере так они назывались в его записях. Четверть опия, три четверти измельченного в порошок золота. На мой вкус второй ингредиент был явно лишним, так что пришлось вспомнить трактат «О внутренней сути вещей» а заодно и «О даре господнем, наделившим природу целительной силой», в котором описывались некоторые снадобья и в частности — опий.
Выпросив у капитана ром, я развела в нем пилюли. Отфильтрованный золотой порошок вернула капитану — пусть распорядится, как считает нужным — а полученный спиртовой раствор опия был прекрасным обезболивающим. Если, конечно, использовать его с умом. Для этого пришлось снова припоминать трактат и пересчитывать сухое вещество в пилюлях на капли раствора. Перепроверить расчеты я попросила обоих магов по отдельности — ошибка могла стать смертельной, но все оказалось правильным.
Большую часть времени я проводила на палубе под натянутым тентом-парусом, благо после того как команда переменила мнение обо мне, я могла без опасения бродить по всему кораблю. Читала сперва книги покойного лекаря, выписывая главное, потом — те, что подобрал мне Генри. Любовалась морем — оно в самом деле было разным. А порой любовалась и профилем Генри, который устраивался неподалеку со своими записями или тоже с книгой.
Дни летели один за другим, неотличимые друг от друга, как и вечера. Капитан неизменно приглашал меня понаблюдать за тем, как определяют местоположение корабля, и к удивлению моему, он действительно не оставался на месте, а целеустремленно перемещался к Дваргону, хотя и медленно — намного медленнее, чем мог бы, если верить обоим магам.
Но если дни тянулись, словно расплавившись из-за жары, то ночи…
Отбивали последние склянки — каждый раз восемь звонких ударов колокола заставляли мое сердце колотиться чаще. Ведь это означало смену дневной вахты на ночную, когда вестовой удалялся спать, а через сколько-то томительных минут едва слышно постучат в дверь. Я открывала: Генри как-то обмолвился, что ему важно знать, что я впускаю его, а не сам он отодвигает магией замок. Как и мне было важно понимать, что с моими желаниями считаются, и, если я не открою, он не вломится силой. Исчезал шум моря, когда на мою маленькую каюту ложился купол тишины, отгораживая ее от всего мира, и оставались только мы двое. Объятья, прикосновения, ласки, порой томительно-нежные, порой полные страсти. Иной раз мы не торопились, помогая друг другу освободиться от одежды, чтобы между нами не осталось никаких преград, в другой — взлетали в воздух юбки, а Генри и вовсе оставался одетым — чтобы, утолив первую страсть, нарочито-медленно снимать с меня один предмет одежды за другим, прерываясь на поцелуи.
Ни разу за это время он не заговаривал о женитьбе, а я не знала, радоваться этому или грустить. Впрочем, ночью у меня не оставалось времени на раздумья — закрыв за ним задвижку и сделав пару шагов до кровати, я проваливалась в сон едва ли не прежде, чем доносила голову на подушку. А днем я продолжала усердно учиться, и снова у меня не было времени подумать — впрочем, я гнала подобные размышления, слишком отчетливо сознавая, что не смогу сказать «нет».
Так продолжалось до того дня, когда ветер снова надул паруса, а ближе к полудню из «вороньего гнезда» раздался крик:
— Парус!
Глава 25
Генри, который сидел рядом со мной, тоже листая какой-то трактат, неторопливо встал. Навел смотровую трубу в сторону, куда указывал впередсмотрящий.
Я не видела лица капитана, но слишком уж прямой стала спина, когда он замер, разглядывая что-то, невидимое отсюда. Лорд Джеймс, поднявшийся из своей каюты, положил руку ему на плечо.
— Что там? — Судя по тому, как посуровело его лицо, квартирмейстер тоже не увидел ничего хорошего.