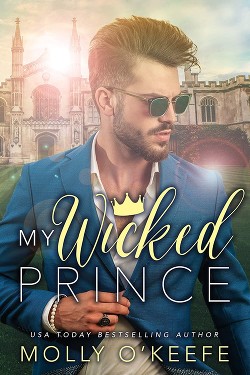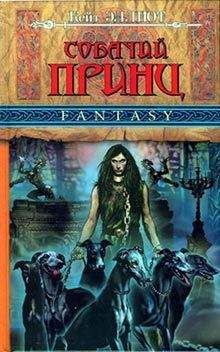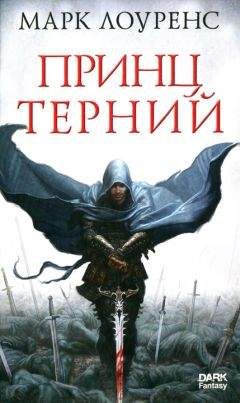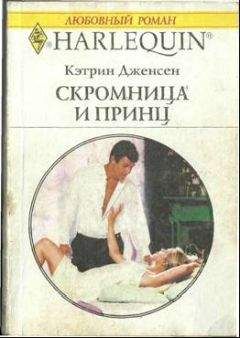— Пожалуйста… — произнесла она отчего-то задрожавшим голосом, в котором были и надежда, и боль, и мольба о прощении. И что-то ещё неуловимое, но ощутимое: горечь, боль, обжигающая и крошащая всё внутри, от которой слепнешь и окончательно теряешь человеческий облик. Анна хотела уверить его, что это ненадолго, но голос отказался ей служить и девушка молчала, беззвучно шевелила губами в бесплодных попытках сказать хоть что-нибудь.
Клод всматривался в лицо девушки, надеясь найти в нём что-то ещё. На дне её глаз под пеленой слёз он увидел своё отражение — своё отвратительное, уродливое лицо, не ставшее прекраснее от появления Аннабелль, всё ещё вселявшее ужас, как раньше. Он видел страх, окружавший его облик, хлеставший из него, как из открытой раны, а к этому ужасу примешивалась унизительная жалость, обострявшая все самые неприятные чувства, которые только могли быть.
Он молча кивнул, то ли Анне, то ли самому себе, поднялся со своего места и в очередной раз взглянул на девушку. Ему вновь захотелось коснуться её, хотя бы локона её волос, в слабой надежде доказать себе, что Аннабелль ещё здесь. Из соседней комнаты донёсся тихий голос маленькой Элены, искренне молившейся о здоровье матери. Клод опустил руку и, отвернувшись, с трудом произнёс: «как тебе будет угодно». Немые слёзы стекали по лицу Анны, к ним примешивались благодарность и исступлённое отчаяние.
19
Клод потерял покой. На несколько секунд его охватывало ужасное, всепоглощающее чувство, точно всё самое худшее, что было в нём, сплелось в тугой жгут и нещадно хлестало его по обнажённым нервам, а он, как загнанный, обезумевший от боли зверь, метался в отчаянных попытках избежать очередного удара. Он заперся в своих покоях и, полностью сдавшись безумной ярости, крушил, рычал, уничтожал всё вокруг себя с неожиданным упоением. Тонкие хребты холстов и картин обращались в щепки и лоскуты в его руках, хозяин замка без сожаления отправлял плоды собственных трудов в полыхавший камин, и казалось, что языки пламени, принимавшиеся пожирать скормленные им творения, выглядывали из своего каменного жилища, насмехаясь над Клодом, они тянули к нему свои огненные ручонки и хищно облизывали ненасытные рты. На несколько мгновений агония прекращалась, Клод падал, будучи не в силах стоять на ногах, и прижимался к холодному полу горячей щекой. В полудрёме вместе с жаром его покидало безумие и он видел хаос, который сам сотворил, кровь на своих руках, но при виде её успокаивался, зная, что пока это всего лишь его кровь. Это вызывало у него странную радость: он всё ещё был в состоянии чувствовать боль, душевную, что в сотни раз сильнее мучений от самой страшной раны, он мог видеть и понимать красоту, любить её, желать её и…
Наваждение сходило, оставляя место слепому гневу, и отвратительное существо, уродливое в душе так же, как и внешне, вырывалось на свободу, продолжало отыгрываться на ни в чём не виновных предметах. Единственным, на что он не решался поднять руку, был портрет, краска ещё не успела высохнуть и в свете огня она блестела так, что казалось, будто всё на картине — и кожа, и волосы, и глаза, и улыбка — всё живое. Клод раз за разом замирал перед портретом с занесённой рукой. В нём боролось двойственное чувство: с одной стороны ему едва ли было жалко собственное творение, но это лицо, эти глаза… Он писал их в бреду, подобном нынешнему, с упоением вглядываясь в каждую линию, сравнивая её с образом, впечатавшимся в его память. Он вдруг осознал, что этот портрет может стать его единственным утешением. Тогда он опустил руку и, бросив на улыбающееся с холста лицо виноватый взгляд, обрушил свой гнев на один из ни в чём не повинных мольбертов. Он не мог успокоиться до самого утра, уже не думал о том, слышат его или нет, было ли вообще кому-нибудь дело до его существования. Единственным, чего Клод желал, было не чувствовать ничего, но опьяневший от боли мозг отчаянно продолжал работать, наступивший неожиданно сон сделался подобным смерти. На рассвете он просто лежал, раскинув руки, позволяя солнечным лучам пронзать его насквозь, точно копьям, и радовался, что ночи стали совсем короткими. Ему казалось, что он уже не мог ничего чувствовать, но при этом ощущал всё в сотни раз отчётливее.
Найдя в себе силы подняться, он послал за кем-нибудь из слуг. Маленькая горничная оказалась у двери его покоев через несколько минут. Она постояла там пару мгновений, набираясь храбрости, Клод к тому моменту успел вновь начать злиться.
— Чего ты там ждёшь? — рыкнул он, слыша шелест её юбок за дверью. Слуги были невидимы и ходили почти бесшумно, не оставляли следов и поддерживали замок в нужном состоянии, не привлекая внимания. Но за долгие годы Клод научился видеть их, различать звуки шагов, замечать, как дрожит воздух вокруг невидимых силуэтов.
Девушка вошла и снова застыла, разглядывая устроенный хозяином беспорядок: обломки, обрывки, пепел. И сам он как будто прошёл через все круги Ада и, к тому же, успел обрести в них популярность. Клод сидел в самом тёмном углу, опустив голову так, что отросшие волосы скрывали лицо, и положив руку на поднятое колено. В разбитых до крови пальцах он держал небольшой кусок холста с парой слов, оставленных быстрым движением.
— Отнеси гостье, — скомандовал Клод, протянув записку. Служанка с трудом пробралась через образовавшийся завал и забрала у хозяина записку. Спешно откланявшись, она поспешила выполнить поручение, а Клод остался на своём месте неподвижный, как статуя. Он поднял взгляд и вновь увидел единственный уцелевший портрет: Аннабелль, окружённая переплетающимися, пронзающими друг друга стеблями роз. Она смотрела на него и Клод не мог оторвать от неё взгляда. В душе он говорил себе, что если один портрет — то немногое, что ему осталось, то он вправе любоваться им сколько вздумается. С жестокой насмешкой, адресованной ему самому и всем, кто оставался в этом замке, он торжественно сообщал, что готов отпустить Анну навсегда. Но было ли это правдой? Клод и сам не знал.
Он приказал приготовить лошадей и отправился в сад, окутанный бледным липким туманом, в котором смешались отзвуки ночи и нового дня.
***
Анне не спалось. Несмотря на усталость и боль, которые грызли её изнутри, подобно самой страшной болезни, она с трудом уснула и лежала в полудрёме, поднимая голову каждые несколько минут, проверяя, не взошло ли солнце. Но за окном была всё та же неизменная всеобъемлющая тьма, в которой мерк всякий свет. Казалось, стоит Аннабелль уснуть, и тьма поглотит и её. Что-то тлело в её душе, обжигая девушку последними вспышками выгорающего огня, слабого, но тем не менее разрушительного.
Анна резко села, как только дверь в её спальню открылась. На прикроватном столике появилась записка. Девушка тут же схватила её, сердце забилось быстрее от необъяснимого ужаса. Она не знала, что написано на куске холста, и не знала, что именно она хотела бы прочесть на нём. Безумный страх смешался с надеждой, Анна пробежала глазами по неровным буквам.
«Вы можете уехать сразу, как только будете готовы».
Она шумно втянула воздух, вспоминая, как нужно дышать. В следующую секунду она сорвалась со своего места и бросилась на поиск Клода с одним вопросом: «Что это значит?». Она прекрасно знала ответ и всё же хотела услышать его, а ещё больше ей хотелось знать, видеть, что Клод здесь и ещё не успел куда-либо исчезнуть. Она хотела объясниться и была готова оправдываться, она ещё не знала за что, но чувство вины на несколько секунд вытеснило все остальные. Хозяина замка нигде не было. Как бы Аннабелль его ни звала, он не появлялся. Она искала его всюду, даже поднялась в башню, где он жил, как пленник, но его дверь оказалась заперта. Спускаясь, она увидела его, прогуливающимся по саду: он то исчезал в тумане, то появлялся вновь, как призрак в своём чёрном капюшоне. Анна бросилась вниз по лестнице, стуча в окна, безуспешно пытаясь окликнуть его — он не останавливался и продолжал одному ему известный путь. Через несколько минут Аннабелль оказалась в саду и искала его среди обрывков растопленного солнцем тумана. Она вновь позвала его. Тишина.