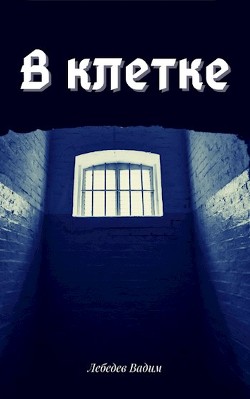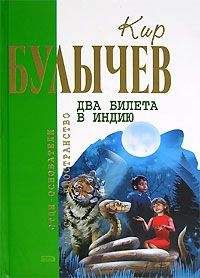— Ты хочешь идти сегодня?! — Келлфер встал и подошел к сыну вплотную. Ему хотелось дать этому взрослому мальчишке подзатыльник, да такой, чтобы в ушах звенело. Как можно было не спланировать такое дело, а заявиться за пол дня до истечения времени?!
— В ближайшие пару часов. Там же другое время, и их полночь наступает раньше нашей. — Келлтор встал и оказался с отцом лицом к лицу. Он был немного ниже, но смотрел будто бы сверху вниз. — Если ты откажешь мне, ты обречешь мою любимую на смерть, и я никогда не прощу тебе этого. Я отрекусь от твоего имени, и больше никогда не вспомню тебя. И я сделаю все, чтобы ты пожалел о своей трусости.
Келлфер взвесил все за и против. Ему хотелось верить, что решение было исключительно рациональным, но в глубине души он знал: он решил помочь Келлтору потому, что тот был его единственным, пусть и таким не похожим на него, сыном. И еще потому, что понимал: это поможет восстановить почти разорванную стараниями Дариды связь. Сын будет благодарен, сын будет заинтересован, сын, может быть, даже отвернется от матери и — вдруг? — повзрослеет, женившись.
И в конце концов, директор Келлфер был одним из сильнейших шепчущих Империи. Быстро, в течение пары часов, сходить в Пар-оол и вернуться не казалось слишком сложным.
— Хорошо.
4.
Два последних дня меня почти не будили, сохраняя мой покой. Как будто я могла спать! Осознание собственной ничтожности и греховности, ужас содеянного грызли мою и так обреченную вечно замерзать в ледяном пекле душу. Когда я думала о том, скольким навредила, как запятнала себя, мне становилось тяжело дышать от рыданий. Тогда служители храма смотрели на меня со снисхождением, которого я не заслуживала.
Я вспоминала, как пятнадцать лет назад впервые обнимала только что ставших сиротами детей, как пела им успокоительную песню, и как они, убаюканные мною, засыпали, и морщинки на их маленьких лбах разглаживались. Боль исчезала, повинуясь мне, и во сне дети улыбались. Я держала близнецов на руках и была горда собой, а когда мой отец подошел ко мне, я передала невесомые тела ему — и сказала, что это я прогнала страдание. Что я умею прогонять боль, и значит, больше никто не должен страдать.
Ему стоило меня задушить в тот день! Тогда я бы не испачкала стольких невинных!
Десятки людей обращались ко мне за помощью за последние пару лет. Больные. Безумные. Потерявшие близких. Страдавшие от хворей, хоронившие супругов, лишившиеся смысла жизни, и особенно — по печальной традиции покинувшие в море детей. Я говорила с ними, успокаивала их разум, и они могли жить дальше. Они приносили мне рыбу и молоко, ткани и даже нехитрые украшения. Я не отвергала их благодарности, чтобы не обесценить ее, но себе брала лишь самое необходимое, а остальное отдавала приютам и нашему лекарю. Я считала, что поступаю благородно, что я — хороший человек, нашедший свое призвание.
Десятки загубленных душ! Я вспоминала их глаза. Раньше казавшиеся мне светящимися от радости долгожданного облегчения, эти глаза теперь сочились тьмой.
.
Кольцо на клетке все сжималось и разжималось. Биение его определяло и биение моего сердца, и пульс, болью колотивший виски, и даже дуновения воздуха, которые я ощущала кожей. Все было подчинено этому артефакту. Я с трудом находила силы напоминать себе, что намерения мои были чистыми, хоть и привели к ужасающим последствиям. Я пыталась схватиться за ту часть себя, что еще была подчинена мне, за тот кусочек Илианы, до которого не могло добраться проклятое и благословенное черное кольцо. Эту, смирившуюся, желавшую смерти, я продолжала про себя называть Идж. Идж брала верх почти постоянно, она хотела умереть, хотела быть наказанной, разорванной заживо.
Меня больше не охраняли. Подходило время моей казни, и служители храма знали, что я почти готова. Они могли бы оставить дверь клетки открытой и сказать мне, чтобы я оставалась внутри — и Идж бы оставалась. Илиана засыпала, воля перестала иметь значение. Только покаяние.
.
Дарис вернулся, как и обещал.
Всего за день до моего отхода в покой он возник на пороге храма, как ни в чем не бывало. Была глубокая, глухая ночь. Сначала я подумала, что Дарис лишь мерещится мне: в часы темноты в святилище богов никого не пускали. Обычно через несколько часов после захода солнца верховный служитель кланялся деревянным идолам, омывал их лица маслом, зажигал перед ними пучки благовоний размером с небольшие кусты, и эти костры потом тлели всю ночь, пропитывая все — воздух, дерево, металл и плоть. Отблески углей заостряли блестящие от масла лица божеств, и я боялась смотреть на грубые алтари.
Сейчас же их неровный свет высветил из темноты фигуру мужчины, такого же красивого, каким я его запомнила. Одет он был намного проще: никакой золотой вышивки, белый камзол сменило простое невзрачное одеяние, и светлым сапогам он предпочел темные. Его раньше спадавшие за спину волосы теперь были завернуты петлей на затылке. Прямой узкий меч в простой кожаной перевязи дрожал на бедре.
В глубине, за отчаянием, все замерло от неожиданного и острого как этот клинок счастья. Вернулся! Вернулся за мной! И тут же эту радость словно придавило могильной плитой: я обязана была молчать. Быть может, в образе Дариса явился проверить мою искренность один из богов, и от того, как я поведу себя сейчас, будет зависеть, чистой я уйду в покой или еще больше опозоренной. И все же я не могла перестать смотреть на Дариса и прислушиваться к каждому его движению.
Черное кольцо разрывало меня надвое. Это было невыносимо.
Дарис сделал несколько шагов внутрь и оглянулся, будто прислушиваясь. Я попыталась понять, что его насторожило, и поняла: все вокруг медленно и очень гулко вибрировало толчками, будто сами стены подвергались мощным ударам.
— Я вернулся за тобой, — улыбнулся он и, кажется, подмигнул мне. В темноте сложно было разглядеть выражение его лица, лишь только зубы поблескивали. — Илиана?
Его голос был ниже обычного, словно им владело возбуждение. Я съежилась на полу клетки и ответила, избегая его взгляда:
— Я должна покаяться и умереть. Я никуда не пойду.
— Что? — не поверил Дарис. — Это еще что? Ты же просила тебя вытащить?
Я хотела сказать ему про кольцо, владевшее моими мыслями и действиями, но не смогла вымолвить ни звука.
— Я выбираю покаяние и смерть, — упрямо повторила я со слезами на глазах. Внутри умирала надежда: если сейчас Дарис развернется и уйдет, другого спасения не будет. Мысленно я умоляла его понять, но он не мог меня слышать.
Дарис подошел к двери:
— Бред. Сейчас, артефакторная защита рухнет, надо подождать. Все эти чертовы железяки выйдут из строя, и дверь откроется. Ты знала, что клетки тоже такие? Подожди немного.
Его рука нашарила мою в темноте и крепко сжала. Прикосновение его было горячим, приятным, обнадеживающим.
Вдруг стены содрогнулись сильнее прежнего, идолы посыпались с постаментов, и я испуганно закрыла лицо руками. Дарис рассмеялся:
— Вот и все!
Я неверяще открыла глаза. Голова раскалывалась от боли, но мысли мои были чистыми как слезы. Я знала, кто я, почему я здесь, и больше не хотела умирать. Идж пропала как туман, оставив за собой горечь. Жгучая ненависть к тем, кто заставил меня потерять себя, окатила меня как огнем. Я вскочила, не помня усталости, не обращая внимания на затекшие ноги, и с силой схватилась за литые прутья клетки. В тот момент мне казалось, что я могу согнуть их голыми руками, так я была зла.
Клетка внезапно раскрылась. Я даже не поняла, как это произошло, но железо будто разошлось под моими руками, и я провалилась вперед, прямо в объятия моего спасителя.
Дарис схватил меня так крепко, что я задохнулась. Я начала рваться из его сильных рук, но они продолжали держать меня — без малейшей нежности, крепко. Я вспомнила, как представляла себе капкан объятий этого мужчины. На деле он оказался даже жестче.
— Все, все, — успокаивающе, срывающимся голосом шептал мне мой спаситель. — Я здесь. И мы уходим. Все хорошо.