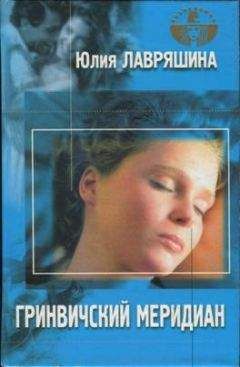— Ты ведь можешь. Твоё право.
— Ты моя жизнь. Не будет тебя и меня не будет. Я потерял второго и четвёртого. Тебя не потеряю. Ты всё, что у меня есть.
И он снял мокрую одежду, взял её на руки и поднялся с ней наверх.
— Сейчас согрею, потерпи…
Растирая её руки, пальцы, ноги, он всё не мог унять собственную дрожь. Словно это снова обман, ложь и её здесь нет.
— Третья. Белл? — позвал он. Она застонала, с трудом открыла такие же как у него глаза. — Не оставляй меня, любимая.
— Прости…
— Нет, это ты меня прости. Ты можешь всё, всё… и всё, что ты делаешь прекрасно. И то, как ты любишь меня, тоже. Я сделал тебе больно. Мне было страшно. Я боялся, что потеряю тебя. Прости меня.
— Я люблю тебя, первый.
И он подался вперёд, подтягивая её к себе, обнимая и прижимая, стараясь согреть теплом своего тела. Уже к рассвету, она стала теплее и дыхание её стало ровным.
Она пошевелилась, открыла глаза, провела рукой по его щеке, и он отдал себя на волю тянущего в бездну желания обладания. Они так давно не были вместе в этом своём истинном обличье. Целуя каждую её рану, шепча просьбы о прощении, он чувствовал, что теряет себя.
А мир снаружи пришёл в движение, наконец…
Третья застонала, когда они стали едины, вцепилась в него со всей силой, что в ней была, причиняя нестерпимую, но такую полную торжества боль.
Нашёл, он её вернул… теперь не отпустит. Она простила, а значит всё теперь будет иначе, в каком бы обличье они не были друг с другом — и скорее всего этот смертный мир заберёт палачей внутрь себя теми, кем они и были в нём.
Но было не важно. Первый палач был счастлив.
Почувствовав шевеление Рэндан открыл глаза. Его накрывала волна ярко-рыжих волос. Он пошевелил рукой, которая обнимала её за талию. Эйва застонала.
— Шельма моя, — Рэндан словно не видел её сотню лет.
— Ммм?
— Иди ко мне, — и он подался вперёд, чтобы поцеловать её в плечо, шею, за ухом.
— Нет, Рэндан, ужасный ты, — запротестовала она, — отстань, всю меня измучил уже, дай поспать.
— Нет, потом, — и желание было таким острым, таким неутолимым.
— Ну же, только под утро угомонился, как дождь этот пошёл никак от меня отстать не можешь, словно век не виделись.
— Может и не виделись, — ответил он. — Я так чувствую.
— А я умру от того, что там уже ничего не чувствую, — фыркнула Эйва. — Сотрёшь меня… что делать будешь?
— Страдать. А потом умру, — прошептал он и перебрался ниже, подтянул к себе. — Давай всё зацелую и пройдёт.
Эйва взвизгнула, смеясь, потом выгнулась, отдаваясь навстречу его рукам.
— Иди лучше кур кормить и козу доить… низшие тебя утащи…
И она ворчала, ругаясь на него, но дыхание было тяжёлым, утягивающим в омут.
— Моя шельма… моя… — хрипел в неё Рэндан, когда она пошла дрожью в его руках, поджала пальцы ног.
— Ненавижу тебя, — задыхалась Эйва от конца.
— Нет… не ненавидишь, — отпустил он и нагнулся, чтобы поцеловать живот, потом грудь. — Жить не можешь.
— Не могу, — ответила она, обнимая его и отвечая на поцелуй, когда он добрался до её губ.
И внизу, в погребе, скисла похлёбка, ветер беспощадно трепал гамак из сетей, в скалах жались друг к другу и орали ошалелые неугомонные чайки, а из того дома, что был вот там недалеко так же на берегу, выглянул на улицу старый почти беззубый рыбак, глянул на море и небо, ругнулся, понимая, что дождь будет идти весь день и в море выйти не получится.