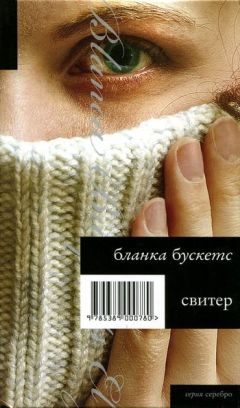— Кричи! — он встряхивает меня, как тряпичную куклу, и с губ срывается один короткий, неуверенный вскрик. Он встряхивает меня, как безжизненный шмат мяса, и по щеке скатывается первая, одинокая, вымученная слеза. — Ещё, Маша, ещё. Кричи, кричи, кричи!
И я кричу. В полную силу, до хрипоты, до напрочь сорванного голоса.
Дикий, нечеловеческий крик вырывается сразу из вскрытой, беспощадно выпотрошенной им груди и разносится по бескрайним полям, тонет во взволнованно дрожащей реке, петляет по лесу, бьёт громовыми раскатами прямиком в хмурое небо и улетает с порывами ветра туда, где он на самом деле родился.
Я кричу за маленького, испуганного ребёнка, на чьих глазах только что убили родителей. Кричу за девочку, чью первую, невинную и чистую любовь жестоко предали, сломали и растоптали все смелые надежды одной маленькой запиской. Кричу за девушку, молчаливо вытерпевшую становление женщиной через дикую боль и унижение. Кричу за младшую сестру, одним утренним звонком телефона оставшуюся единственной внучкой. Кричу за ту, что три с половиной тысячи дней просыпалась и засыпала с надеждами, оказавшимися не ложными.
Кирилл держит меня молча, даже не пытаясь погладить по голове или вытереть слёзы, заливающие его одежду. Просто держит, пока меня трясёт в истерике, не позволяя безвольно свалиться на землю обессиленному и уставшему телу. Держит, когда мне самой непонятно, как и за что держаться теперь.
За его плечи? За его обещания? За его чувства?
Несколько крупных капель ударяют мне в затылок. Ещё одна шмякается прямо на запястье болтающейся вдоль тела руки и скатывается в траву по тыльной стороне ладони.
И прежде, чем мне удаётся раскрыть крепко зажмуренные все последние минуты глаза, дождь начинает хлестать по нам сплошным потоком, обрушиваясь гневом стихии, пробужденной криками боли.
У меня получается подскочить на ноги сразу же вслед за Кириллом, уже наклонившимся, чтобы подхватить меня на руки. И я хватаюсь за его ладонь, и бегу вместе с ним к машине, поскальзываясь на мокрой траве и земле, пару раз только чудом удерживая равновесие.
Он заталкивает меня на заднее сидение, сам заводит машину и быстро врубает тепло на максимум, наполняя салон мерным гудением системы климат-контроля. Достаёт из багажника плед с до сих пор не сорванной биркой магазина, распахивает дверь и торопливо помогает мне стянуть промокшие насквозь свитер и джинсы, так и стоя на улице прямо под ливнем.
Я беру его за руки и тяну на себя, с непойми откуда взявшейся силой стараюсь затащить внутрь машины, встречаясь с неожиданным сопротивлением.
— Маш, я мокрый весь, — ему приходится кричать, чтобы перебить звуки стучащих по крыше и стёклам капель дождя и моих громко клацающих зубов, но в ответ я лишь мотаю головой, заливая всё вокруг летящими с волос брызгами, и снова уверенно дёргаю его на себя.
— Ттак раззденься тоже, — голос сипит и хрипит, горло саднит после криков, но мне удаётся добиться своего, и он всё же залезает ко мне. Дверь машины захлопывается, погружая нас в вакуум, в тесную и душную камеру взаимных пыток, и моё сердце колотится в унисон с ритмом дождя, с идущим по телу ознобом, пока заледеневшие пальцы подцепляют край его свитера вместе с футболкой и тянут наверх, вскользь касаясь оголённого торса тыльной стороной ладони.
Нам двоим здесь слишком мало места, поэтому приходится вжиматься друг в друга телами, переплетаться руками и ногами, помогать стягивать прилипшую от влаги одежду. Чтобы кожа к коже, губы к губам, глаза в глаза, и всё с таким восторгом, словно впервые в жизни.
— Маша, — он пытается что-то сказать, но я перехватываю все возможные слова поцелуем, не позволяя прекратить это, не желая ничего больше слышать. Только шёпот своего имени, повторяющийся раз за разом, день за днём, сливающийся для меня в одну беспрерывную мелодию.
Опускаюсь спиной на сидение и тяну его следом за собой, наслаждаясь тем, как наваливается сверху тяжесть горячего тела, придавливая меня и не позволяя толком пошевелиться; как зарываются в волосы пальцы, обхватывая мою голову; как вспыхивают губы под поцелуями, наливаясь кровью и разбухая.
Как тогда. Как в ту ночь. Как в любую из тех ночей, что у нас украли.
— Пожалуйста, пожалуйста, я хочу забыться, — признаюсь ему тихо, прямо на ушко, пробегаясь пальцами по шее, по крепкой и напряжённой спине. — Помоги мне забыть.
Отдаюсь поцелуям, глубоким и нежным, опьяняющим сильнее тех капель коньяка, который когда-то впервые попробовала, слизав с его губ. Не замечаю даже тот момент, когда он оказывается уже во мне и двигается постепенно, так хорошо и мягко, словно меня раскачивает на огромной лодке, свободно плывущей по неторопливому течению реки.
Вперёд-назад, вперёд-назад.
Не толчки, а плавное скольжение внутри, всё нарастающее трение, отзывающееся сладкой негой где-то в теле, потерявшем чёткие формы и очертания, разлившемся под ним, слившемся с холодными каплями дождя и горячими каплями пота на его коже.
Вперёд-назад, вперёд-назад.
Я запрокидываю голову и подставляю шею под поцелуи, под невесомые и тёплые прикосновения языка, а сама улыбаюсь ненормально широко и искренне. И позволяю себя укачивать, убаюкивать, удовлетворять этими чудесными поступательными движениями, ощущением спутавшихся прядей под своими пальцами, обманчивым чувством переигранного прошлого, вернувшегося вспять времени.
Мне кажется, что мир вокруг исчез, захлопнулся как прочитанная до конца книга, свернулся клубочком до размера одной машины, сжался до узкой ленточки сидения, прилипающего к обнажённой коже. Тут, под небрежно накинутым поверх нас пледом, с затёкшим от крайне тесного для двоих пространства телом, до сих пор подрагивая после истерики, после дождя, после оргазма, я чувствую себя настолько живой.
И настолько же счастливой.
А следом приходит опустошение. Непривычный, ранее незнакомый тоскливый страх того, что это — абсолютный пик, вершина всех возможных эмоций, предел счастья, растекающегося в груди хрупкой тёплой нежностью. И дальше, как и всегда прежде, будет становиться только хуже, и хуже, и хуже…
Дождь так и не заканчивается, но яростная дробь огромных капель сменяется на размеренное, почти деликатное постукивание как раз к тому моменту, как дыхание прижимающегося ко мне Кирилла становится ровным, спокойным, глубоким, а вылетающий из его рта тёплый воздух слегка раздувает прилипшие к моему лбу тонкие пряди волос.
— Лучше вернуться, пока дорогу не размыло, — у меня хватает сил только согласно кивнуть, хотя сам факт того, как быстро он возвращает себе трезвость мысли, вызывает зависть и недоумение. Я-то привыкла излишне самоуверенно считать именно себя излишне рассудительной, просчитывающей наперёд каждое слово и действие, не поддающейся никаким эмоциям.
Посмотри, что с тобой стало, Маша. Ты увязла в топи собственных чувств так глубоко, что можешь лишь беспомощно смотреть на него преданно-обожающим взглядом.
Он еле натягивает на себя мокрую одежду, морщится и кривится, каждым слишком резким и поспешным движением то задевает руками сидения, то стукается головой о крышу, чертыхается, и только закатывает глаза, когда замечает, что я наблюдаю за ним из-под полуопущенных ресниц и улыбаюсь.
Его время ухмыляться наступает сразу следом, когда мне приходится извиваться змеёй и нелепо елозить по сидению, чтобы натянуть на себя трусы и при этом не испачкать всё вокруг его спермой, начинающей вытекать из меня при первом же излишне торопливом движении бёдрами. И когда он достаёт из бардачка пачку салфеток и молча протягивает мне, только закатываю глаза.
— Пока будем ехать, остальная одежда успеет подсохнуть, — поясняет он, укутывая меня в плед в одной лишь блузке и трусах, и подталкивает перелезть на переднее сидение.
Печка действительно жарит так сильно, что тяжело становится дышать, и тут не то, что одежда, — я сама скоро высохну так сильно, что кожа потрескается и начнёт осыпаться.
От духоты кружится голова и сильно клонит в сон, и я снова подтягиваю ноги к себе, прислоняю голову к слегка запотевшему окну, щекой смазывая капельки контрастно-прохладного конденсата, и всё равно стараюсь не закрывать глаза и смотреть на него, сосредоточенного то ли на дороге, то ли в собственных мыслях.