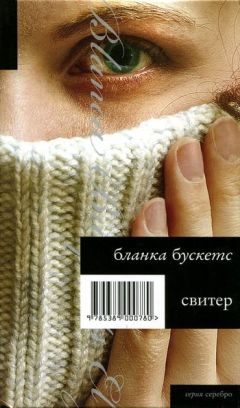Утону тут же, как брошенный в воду камень. Без промедления, без шанса на спасение, рухну на самое дно и не выберусь больше никогда.
Для меня оставаться с ней рядом это даже не саморазрушение, а самый настоящий суицид, который хочется растянуть на весь остаток жизни. Тонуть день ото дня. Травиться ядом — по чуть-чуть, постепенно, наслаждаясь тем, как отказывают один за другим жизненно важные органы, пока я пребываю в нездоровом, наркотическом экстазе. Истлевать десятками лет, раз за разом туша огонь своих эмоций в её прохладной глубине.
— Скажи мне, Кирилл, — начинает она неожиданно-ожидаемо, тянет задумчиво, и я тут же разворачиваюсь к ней с искусственно-учтивой улыбкой на губах, на тренировку которой ушёл не один год. Так же, как на мастерство до последнего держать свои эмоции на замке, не показывая злости, страха, растерянности.
Но сейчас я чувствую предвкушение. Такое, что выдаю себя с потрохами, облизывая пересохшие губы, разглядывая её лицо, пока что удерживающее выражение обычного праздного любопытства.
Только низкий и певучий, вибрирующий в воздухе, непривычно стервозный голос не даёт ей меня одурачить, исподтишка забирается внутрь и пробегается чувством странной щекотки от груди к низу живота, резкой пульсацией приливающей крови отзывается в члене.
— Что? — движимый инстинктами, подкрадываюсь ближе к ней, упираюсь бедром в стойку, вынуждая её задрать голову и смотреть на меня снизу вверх. Это опьяняет и будоражит, даёт ложное ощущение власти, подстёгивает азарт, под влиянием которого можно потерять бдительность и забыть обо всём на свете.
Давай же, Маша, провоцируй меня. Доводи. Заводи.
Я знаю, что мы оба без ума от этой игры.
— Я хочу знать, — она снова делает паузу и улыбается широко, прищуривается, когда мне не хватает выдержки и тело само подаётся ещё ближе к ней. — Что ты собирался делать тогда, Кирилл? По ночам. С влюблённой в тебя тринадцатилетней девочкой.
Выдыхаю судорожно и громко, с ненавистью и злостью смотрю в её глаза, неистовый шторм в которых вдруг унимается, сменяется полным штилем, позволяя любоваться кристально-прозрачной голубой гладью. Невероятно чистый и невинный взгляд для той, в чьей голове настолько развратно-грязные мысли.
Дышать становится тяжело от подкатившего к горлу комка тошноты, от омерзения и отвращения, вызванными настолько неправильными мыслями, невольно возникающими образами и ассоциациями, от которых мне становится невыносимо тесно в собственной коже. Запретная тема. Самое слабое место, по которому она, не раздумывая, нанесла мощный удар.
— Ничего, Ма-шень-ка, — хриплю отчаянно, чем немало её забавляю, судя по становящейся всё более довольной улыбке. Смотрит хищно, словно примеривается к следующему броску на загнанную в угол жертву, дышит глубоко и учащённо, кладёт ладонь мне на грудь и ноготком подцепляет пуговицу на рубашке. — Подождал бы пару лет.
— Пару лет, — повторяет за мной протяжным эхо и ведёт пальцами вниз, задерживается на пряжке ремня и при этом заглядывает мне в глаза, насмехаясь надо мной откровенно, нагло, безнаказанно. И я спешу ответить на брошенный вызов, перехватываю её локти, но всё равно опаздываю: ладонь уже сжимает через брюки налившийся кровью, болезненно напряжённый от возбуждения член. — И кого же ты обманываешь, Кирилл: меня или себя?
Тело бьёт судорога, на лбу выступает испарина, и я чувствую стыд, всепоглощающий и уничтожающий стыд, словно меня застукали с поличным на чём-то особенно ужасном и гадком. И еле справляюсь с желанием содрать её с этого стула, перегнуть через него же и жёстко отодрать.
Почему, почему, почему ты такая сука, Маша?
Это уже не провокация, а клинический диагноз и статья в уголовном кодексе.
— Ты спросила меня, что я собирался с тобой делать. Мой ответ максимально честный и открытый, Маша: ни-че-го, — отпускаю её руки, поняв всю бесперспективность собственных вялых и неубедительных попыток остановить этот позорный, тошнотворный и отчего-то возбуждающий разговор. Хватаю волосы в кулак и не позволяю отвернуться, склоняюсь вплотную к ней, упираюсь своим лбом в её и шепчу отчаянно: — Потому что хотеть и делать — это совсем разные вещи.
Вижу разочарование и досаду на её красивом личике и еле сдерживаюсь, чтобы не высказать ехидное: «Задавать правильные вопросы ты так и не научилась». Потому что это — единственная моя возможность раз за разом ускользать от прямых ответов, продолжать хвататься за край отвесной скалы, когда как ноги мои уже висят над бездонной пропастью.
Ведь она научилась самому главному — манипулировать моими чувствами и слабостями ловко, словно кукловод, держащий в своих руках десятки привязанных к телу куклы ниточек.
— И что ты… хотел? — запинается, срывается, облизывает губы нервно, и я сжимаю её волосы ещё крепче, останавливая себя в желании немедленно догнать этот розовый кончик языка и почувствовать его у себя во рту. Достаточно с меня попыток не терять самообладание, пока её ладонь усердно и бесстыдно надрачивает мне сквозь одежду.
Улыбаюсь и легонько качаю головой, сильнее вдавливаясь в её лоб. Наверное, я и сам не смог бы сказать, чего хотел тогда. Восемнадцатилетний парень, знакомый лишь с объятиями матери в детстве и чужими кулаками в подростковом возрасте. Испытывающий такой острый тактильный голод, что от каждого прикосновения внутренности отправлялись в поездку по американским горкам от восторга.
Понадобилось время, чтобы понять, что дело было вовсе не в пресловутом тактильном голоде. Имело значение лишь то, к кому прикасаться.
Мне нужно было трогать её. Совсем не так, как могу делать это сейчас, не ограничивая себя ничем, кроме пределов собственной фантазии и извращённости. Чувствовать мягкость и шелковистость кожи под контрастно-жёсткими, шероховатыми, покрытыми огрубелыми мозолями подушечками пальцев; вести костяшками по нежной и хрупкой шее, ощущая её волнение, дрожь, трепет. Тереться кончиком носа о её щёку, утыкаться в висок, зарываться в волосы, чтобы вдохнуть тонкий, еле уловимый цветочный аромат.
Она порывисто выдыхает в тот момент, когда я провожу ладонью вдоль её руки, от плеча до запястья, почти не соприкасаясь с кожей, держась на мучительно-приличном расстоянии, и начинаю поглаживать напряжённые пальцы, вцепившиеся в край стула. Осторожно перебираю пряди на её затылке, большим пальцем задеваю мочку с маленькой серёжкой-колечком в ней.
— Уходишь от ответа? — шепчет злобно, пытается вывернуться, чтобы посмотреть на меня, скинуть с себя морок неожиданной, непредсказуемой нежности, от которой тает оставленным на солнце кристаллом льда, так соблазнительно растекается в моих руках.
— Ты спросила, чего я хотел. Я показываю тебе это.
Вижу, как она пытается передёрнуть плечами, скривиться в гримасе недоверия, может быть даже рассмеяться или сказать что-нибудь едкое, издевательское. И не может. Не хочет?
Это на самом деле то, чего я точно хотел тогда. Наслаждаться её близостью, теплом, возможностью быть рядом, вместе с ней.
Пройдёт не один месяц, прежде чем я в полной мере смогу оценить совсем другую возможность близости. И не один год, прежде чем попробую представить кого-то другого на месте снятой на пару часов проститутки, старательно отрабатывающей свои деньги.
Только казалось безобразным думать о той, которая в воспоминаниях так и оставалась совсем ещё ребёнком, когда на твой член ртом натягивают презерватив. Чем-то на уровне дикого отвращения к себе, желания закинуться алкоголем и дозой побольше, чтобы потом хохотать в голос и убеждать себя, что я нормальный, нормальный, нормальный!
Или просто слегка не в себе.
— А ты, Маша? Чего хотела ты? — жду, что огрызнётся, мгновенно сменит тему, постарается меня переиграть, изо всех сил схватится за возможность снова ткнуть меня носом в тот факт, что ей на меня почти всё равно. А вместо этого только продлеваю собственную агонию, потому что её пальцы яростно и быстро расстёгивают пуговицу и ширинку на моих брюках, резко дёргают их вниз вместе с трусами, и снова сжимают член.