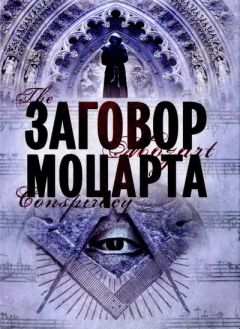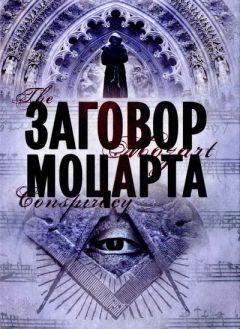Сергей резко сел. Я видела только спину. Но, потом, когда встал, его хмурые, обострившиеся черты лица мне совсем не понравились.
— Серёж! — подскочила я, вспомнив. Вот балда! Сижу, кормлю его разговорами! — Я же пельмени привезла. Мне разрешили, — кинулась я к сумке, что стояла у стола. — И Антонина Юрьевна ещё тут наготовила всякого, твоего любимого, — суетливо выставляла я на стол контейнеры, термос.
— Спасибо, малыш, — обнял он меня, чмокнув в шею, и, как коня оседлал лавку, что вместе с прикрученным к полу столом и раковиной, были в этой каморке «кухонной зоной».
Я деловито накрывала на стол под его внимательным взглядом. Хоть у меня руки и тряслись от волнения — я первый раз была в роли настоящей жены, ещё не привыкла. И, не вынеся тишины, чтобы скрыть смущение, снова затараторила:
— Иван тогда стал искать этого мужика и выяснил про «Детей Самаэля». Это всё я узнала он него. А ещё Кирка, ну та подруга Эли сделала Ди такое странное предсказание. И мать не мать. И отец не отец, — открыла я термос. — Бульон. Налить? В пельмени?
Сергей остановил меня за руку, словно всё это время меня и не слышал, погружённый в свои мысли.
— Ты спросила, что вам с этим делать. Копайте. Подключай Руслана, Ивана, всех, кто с нами. Эльку, если хочешь спроси, если откажется говорить — не настаивай. С ней сложно, — он тяжело вздохнул. — Детка, я должен тебе кое-что сказать. Это важно, — потянул он меня вниз, заставив сесть. — Ну, ты знаешь, я не святой и не монах, и всё вот это бла-бла-бла. В общем, у меня были женщины…
Ледяной холодок прокатился по спине.
— Нет, — подняла обе руки, останавливая его. — Нет, нет и нет. Если сейчас ты хочешь покаяться и рассказать мне ещё о какой-нибудь своей бабе, я против. Мне хватает сестры, Целестины, прокурора города и того, что мне с этим приходится как-то жить и мириться. Больше я ничего знать не хочу.
— Малыш, — не сводя с меня глаз, скорбно покачал он головой, что, видимо означало: я должна это знать, нравится мне или нет. Но я и так еле держалась. Едва находила в себе силы не отчаиваться. Ещё одна его амурная история меня просто размажет. А мне нельзя падать духом, особенно сейчас, когда он в тюрьме. Нельзя.
— Нет! — почти выкрикнула я. — Не делай этого больше со мной! Даже если ты спал с половиной города, даже если она пряталась под кроватью, когда с тобой была я, сейчас притаилась в туалете или навещала тебя до меня… Нет! Не рассказывай мне!
— Навещала?! — конечно, выхватил он из разговора самое главное. И, конечно, то, что я не хотела говорить да вырвалось само. — С чего ты взяла?
— Надзирательница на посту, что обыскивала меня и сумки, сказала, что я зачастила. У неё уже записано «жена» два дня назад.
Сергей выдохнул, повесив голову на грудь.
Эта чёртова покаянная поза разбивала мне сердце даже больше, чем его слова, но я сцепила зубы. Всё, что ещё добавила разговорчивая баба в форме про проституток, что водят к заключённым, про любовниц, что ходят сюда как на работу к таким вона, как мой, влиятельным, богатеньким, пока ощупывала вещи и унизительно заставляла меня, раздетую догола, приседать, и прочие подробности я оставила при себе.
— Не вздумай мне ни в чём сознаваться, — предупредила я, когда он поднял голову. — И Целестину я твою придушу собственными руками, если она ещё раз скажет она будет у него в тюрьме, если это не про ветрянку или свинку.
Сергей приподнял брови, потом усмехнулся с выражением лица «Чему я удивляюсь?» и я была с ним совершенно согласна (Ты до сих удивляешься?), потёр руками лицо и махнул:
— Лей свой бульон!
— Он не мой. Он из-под пельменей. Чтобы они в нём не раскисли, пришлось везти отдельно, — опять затрещала я. Принялась рассказывать про Перси, про всякие глупости, глядя как он ест, пока он вдруг не замер и не перебил:
— И мать не мать? И отец не отец? Элька так сказала Диане?
— Не она. Кирка. Но Эля повторила. А потом добавила: «Но против буду не я».
— Конечно, против будет не она… — покачал он головой и положил ложку. — Против буду я.
Глава 9. Моцарт
Против буду я! Если Антон начнёт заглядываться на Диану.
Да твою же мать! А я-то думал, что хоть это не моя проблема. Но нет. Моя!
Ещё как — моя!
Дианке семнадцать?.. Ей интересовался мой незабвенный папаша?..
Тоскливое чувство, что никак не отпускало меня, глядя на эту девочку, материализовалось в ответ: почему Сагитов получил пулю между глаз, когда сказал про дочь. Почему Иван, сын Давыда, пришёл ко мне работать. И почему его мать смотрела на меня так испуганно…
Диана моя дочь?! Моя чудом выжившая девочка, с шоколадными глазами своей матери, её смехом, её…
Грёбаное дерьмо!
А с этим-то мне что теперь делать?
Я гнал эти мысли как мог, пока рядом была Женька.
— Напомни Антону, что ей всего семнадцать и про уголовную ответственность за совращение малолетних, — строго предупредил я, чтобы хоть как-то объяснить, почему я против их отношений.
А ещё строго настрого запретил тратить деньги, что я ей оставил, на меня.
— Так надо, малыш, — провёл по её щеке, заглядывая глаза.
А что ещё я мог сказать? Они пригодятся тебе, если я отсюда не выйду? Что я могу не выйти? Убил бы Барановского за его самодеятельность у меня за спиной, за эту грусть в её глазах, за длинный язык, за то, что вообще посмел вмешивать в наши дела Женьку.
— Она же не вернётся к мужу, правда? Только ему нельзя об этом знать, а то он не станет тебе помогать, — смотрела она на меня укоризненно. Моя бесхитростная, светлая, искренняя девочка! За этот укор в её глазах Барановкого мало убить, его надо воскресить и убить снова.
— Есть такая вероятность. Но как знать, — покачал я головой, — она всё же ждёт его ребёнка. Иногда это всё меняет. И ребёнок становится важнее всего остального, — я тяжело вздохнул. — Да и Барановский, возможно, за время разлуки что-то для себя поймёт. И они начнут всё заново. Люди непостоянны. А женщины особенно, — улыбнулся я.
И мог бы аргументировать, рассказав, что однажды Александра Игоревна сказала: «Я его не люблю. Но не разведусь. Разведусь — он найдёт себе другую. Ещё, не дай бог, будет с ней счастлив. А вот хрен ему! Буду вероломно изменять». А уже пару недель спустя умоляла меня в аэропорту помочь ей с разводом.
Но ведь моя смышлёная девочка обязательно спросит где именно её сестра это сказала, а я не мог, да и не собирался делать ей больно. И врать тоже. Хоть это и давало мне право думать, что, оставшись без денег и всепрощения Барановского, Сашка снова передумает. И, возможно, со второй попытки у них даже всё сложится.
— Тогда пусть так, или нет — неважно. Главное, чтобы ты вышел, — упрямо тряхнула головой уже не просто моя любимая девочка — жена. Безоговорочно вставая на мою сторону.
Три часа, отведённые на свидание, пролетели так быстро, что хотелось орать: «Нет! Нет! Нет! Не уходи, малыш! Выпустите меня отсюда, твари!»
Моя бандитка, конечно, расплакалась, прощаясь.
Да и у меня, хоть и прикусил щёку изнутри до крови, глаза покраснели.
— Личняк — зло, — буркнул старый зэк, что сидел со мной в одной камере. В моей новой светлой хате на восемь шконок, где пока занято было семь. — Только первоходы этого ещё не понимают. Рвут душник, — постучал он себя по груди мозолистой рукой, когда я сел на свою кровать.
И в чём-то я был с ним согласен: душу рвут в клочья эти личные свидания, напоминая о том, что мы оставили на воле. Но и не согласен тоже: они дают злость, желание жить и бороться во что бы то ни стало. Не сломаться. Не сдаваться. Сопли вытереть и стоять насмерть.
А меня явно хотели сломать. Заставить подчиниться. Покориться. Послушаться.
Когда вчера, прежде чем переселить, меня толкнули в так называемую пресс-хату, где по указанию начальства четыре дюжих молодчика прессовали, то есть били «неугодных», вопроса почему я оказался здесь, у меня не возникло. И вчера меня просто били, не зло, не сильно, в пол ноги — в воспитательных целях. В предупредительных.