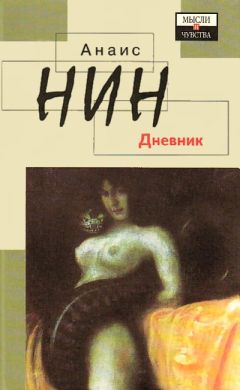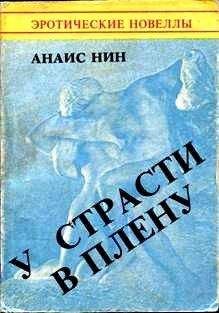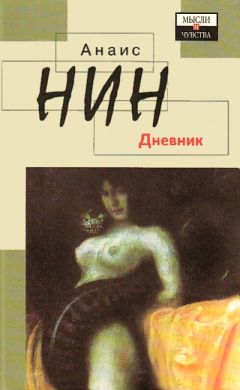— Может ли детская доверчивость, однажды обманутая и растоптанная, так влиять на всю последующую жизнь? Почему моя безответная любовь к отцу так и осталась со мной, а я ведь столько раз знала любовь с тех пор, как он нас оставил?
— Вы кажетесь очень уравновешенной особой, — произнес доктор Альенди. — И не думаю, что вам я необходим.
Я внезапно почувствовала страх, что останусь опять одна со всеми своими трудностями.
И я спросила, могу ли я прийти к нему снова.
Имеется одно обстоятельство, ставящее трудную задачу перед тем, кто берется писать о психоанализе. Почти невозможно выявить связи, которые приводят к тому или иному выводу. Бессвязное бормотание, пространство, погруженное в полумрак. Это вовсе не те четкие фразы, которые я кладу на бумагу. Там были колебания, сомнения, косвенные намеки, околичности. Я изобразила это как прозрачный диалог, пропустив тени, неясности, недомолвки. Не получается дать постепенное разворачивание темы.
Значит ли это, что доктор Альенди работает с чем-то, не поддающимся осознанию?
Вот что он говорит: «Женщины ничем не поспособствовали психоанализу. Женские реакции все еще продолжают быть загадкой, и психоанализ останется незавершенным так долго, как долго мы будем основывать наши предположения только на изучении мужчин. Мы предполагаем, что поведение женщины объясняется тем же, что и поведение мужчины, но мы этого не знаем точно. Самолюбие мужчины намного превосходит женское самолюбие — ведь вся его жизнь основана на подобающем мужчине культе завоевателя, это еще с самого раннего Средневековья, когда тот, кто не мог охотиться, был достоин только смерти. Мужское самолюбие безмерно, и раны, нанесенные ему, оказываются фатальными».
Психоанализ вынуждает быть как можно правдивее. Я уже уяснила себе некоторые свои чувства, например боязнь причинить боль.
Презираю свою гипертрофированную чувствительность, которой требуется все время утешение. Это же почти ненормально — с такой силой желать быть любимой и понятой.
Я написала первые две страницы новой своей книжки «Дом инцеста» в сюрреалистическом духе. Под влиянием «Транзисьона», Бретона и Рембо я позволила своему воображению порезвиться вволю.
А что же я чувствую, когда вижу устремленные на меня холодные голубые глаза Генри? У моего отца был ледяной голубой взгляд.
Генри прекрасно говорит со мной, спокойно, мудро.
— В воскресенье ночью, когда ты от нас ушла, я немного поспал, а потом встал и вышел прогуляться. И вдруг мне открылась жуткая истина: я не хочу, чтобы Джун вернулась. Иногда я даже думаю, что если она приедет и я в ней разочаруюсь и не надо будет мне больше о ней заботиться, то я несказанно обрадуюсь. В ту ночь я чуть было не послал ей телеграмму, что она мне не нужна. С тобой я открыл, что в таких отношениях между мужчиной и женщиной может существовать настоящая дружба, а с ней мы же никогда не были друзьями.
Мы шли к Пляс Клиши, Генри, Фред и я. Генри рассказывал мне все, что знает об улицах, о людях на них. Он дышит улицами, он любуется ими. Он показывает мне проститутку на деревянной ноге, стоящую возле Гомон-Палас. Он водит меня по узким извилистым улицам, мимо маленьких отельчиков и шлюх, стоящих в дверных проемах под красными фонарями. Мы сидим с ним в специфическом кафе; кафе Франсис Карко, сутенеры играют в карты, поглядывая на тротуар, где торчат их девки.
Мы разговариваем о жизни и смерти, как разговаривал о них Лоуренс, вспоминаем разных людей, умерших и живых. Генри говорит: «Если бы Лоуренс был сейчас жив и знал тебя, он бы в тебя влюбился».
В Клиши мы сидим на кухне, с нами Фред. Маленькое окно выходит во двор. Мы прикончили бутылку вина и вовсю курим так, что Генри приходится вставать и промывать холодной водой глаза, воспаленные глаза маленького немецкого мальчика.
Я не могу больше это выносить и вскакиваю: «Давай, Генри, выпьем за конец твоей работы в газете. Не возвращайся туда больше. Я о тебе позабочусь».
Мой порыв производит неожиданный эффект на Фреда. Губы у него дрожат, и в глазах слезы. Кладет голову мне на плечо, а по щекам бегут слезы, тяжелые, огромные, никогда не видела таких слез. «Не огорчайся», — говорю я ему, совсем не понимая, зачем я это говорю. С чего бы ему огорчаться, если его друг Генри Миллер бросит работу, которая губит его зрение?
Генри тоже не понял: «В чем дело, Фред? Кажется, ты подумал, что я промываю глаза специально, чтоб вызвать в Анаис жалость, воспользоваться ее добротой».
Встречаю Генри с приятелями в кафе. Генри говорит, что Фред не вернулся в Клиши прошлой ночью.
— Ты не принимай его слишком всерьез, — говорит мне Генри. — Фред любит трагедии. Он все воспринимает остро и переживает слишком эмоционально, но все это лежит на поверхности и быстро проходит.
Фред присоединяется к нам позже. Мы идем ужинать в бистро. Но Фред явно в депрессии. А Генри решает, какой фильм нам стоит посмотреть сегодня. Фред говорит, что не пойдет с нами, ему надо работать.
Генри выходит за сигаретами.
Я говорю:
— Фред, почему ты не хочешь пойти с нами? На что ты обиделся?
— Будет лучше, если я не пойду. Я очень несчастлив. Ты же знаешь, что со мной происходит.
И поцеловал мне руку.
А немного погодя, когда красное вино переменило его настроение, он каким-то добродушным тоном предложил:
— А давайте не пойдем в кино. Поедем лучше в Лувесьенн.
И все трое мы побежали на вокзал. Было только девять часов вечера, но все в доме было погружено в сон. Волшебство.
Я чувствовала, как очарование моего дома действует на них успокаивающе. Мы сидели у камина, и огонь заставлял нас разговаривать тихо и задушевно.
Я открыла железные ящики и показала им дневники. Фред схватил первый том[24] и начал ахать и смеяться над его страницами. Генри читал все, что написано о нем в красной тетради. Мы сидели в гостиной, читали и разговаривали.
Придя в Клиши поужинать, я застала обоих за работой. Генри просматривал куски, которые можно было вставить в книгу. Сила его письма! Парадокс между его мягкостью и неистовостью его стиля. Мы вместе приготовили ужин. Фред печатал на машинке страницы обо мне. Прекрасный мой портрет написал. Но говорит:
— Те страницы можно дать прочесть любому. Я собираюсь написать то, что будет предназначено только тебе. — И тут же:
— Анаис, ты хорошо ко мне относишься? — жалобно так.
— Ну, конечно, Фред, хорошо.
А Генри в отличном настроении. Он составляет планы будущих книг; говорит о Шпенглере, «Транзисьоне», Бретоне и о снах.
Эти тихие, спокойные часы с Генри и Фредом — самые плодотворные. Генри впадает в задумчивый покой, в медитацию, посмеивается над своей работой. В нем временами проглядывает что-то от гнома, от сатира, а то он просто немецкий школяр. В такие минуты его тело кажется слишком хрупким, энергия его письма, его разговоров, сила его воображения слишком тяжелы для этой непрочной оболочки, того и гляди раздавят ее. А вот сейчас я смотрю, как он сидит, попивая кофе, и вижу новые стороны его существа: я вижу, как он ярок, я вижу, как взрываются в нем импульсы и их шквалы несут его повсюду, я вижу его письма к людям со всего света, его въедливое любопытство, дотошное, изо дня в день, из ночи в ночь исследование Парижа, его неослабное изучение человеческих существ.