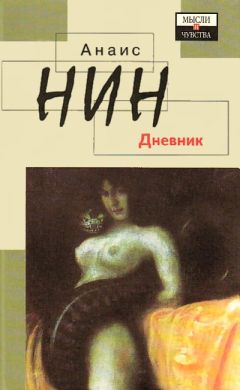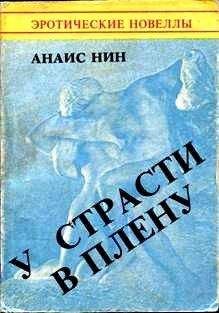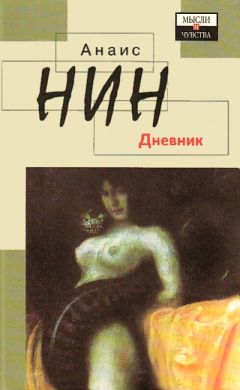…Поздняя ночь. Я в Лувесьенне. Сижу возле камина в своей спальне. Опущены плотные шторы. И комната кажется накрепко вросшей в землю, укорененной в нее. Слышен запах мокрых деревьев и сырой травы. Ветер заносит эти запахи через каминную трубу. Стены толстые, толщиной в ярд, и в них, над кроватью, вделаны книжные полки. Кровать широкая и приземистая.
Генри называет мой дом лабораторией души.
Войди в эту лабораторию души, где каждое чувство просвечено рентгеновскими лучами доктора Альенди и видны все составляющие, все изгибы, все шрамы души, которую несет поток жизни. Войди в эту лабораторию души, где все случаи занесены в дневник, проанализированы, чтобы доказать, что каждый из нас глядится в искажающее зеркало и кажется себе то слишком огромным, то слишком маленьким, слишком жирным или слишком тощим; каждый, даже Генри, считающий себя свободным, беспечным, ничего не боящимся. Войди туда, где тебе откроется, что судьбой можно управлять, что нет нужды оставаться в рабстве у ран, нанесенных детской впечатлительностью, что нет несмываемого клейма на твоей личности. И тогда обманное зеркало разлетится вдребезги и ты ощутишь себя цельностью, и ты познаешь радость.
И все это совершается доктором Альенди. А потом плоды его анализа, его исследований я бережно несу домой и процеживаю свой дневник, избавляя его страницы от посторонних примесей, от неверных представлений. И затем осторожно, поэтично, артистически стараюсь пересказать это Генри. И до него порой это доходит, если нет в моих рассказах клинического запаха, нет обыденного жаргона психоаналитиков. Многое он пропускает мимо ушей, но, когда рассказ должным образом расцвечен, приправлен, драматизирован, ему интересно. И тогда, так же, как я рассказываю доктору Альенди мою жизнь, Генри рассказывает мне свою.
Замечание в скобках
Так прорисовываются контуры «Черной весны» — второй части автобиографической трилогии Генри Миллера. Если первая, «Тропик Рака», целиком посвящена жизни автора в Париже начала тридцатых годов, то «Черная весна» — это возврат во времена детства, отрочества, юности. На написание этой книги Миллера подтолкнула Анаис. Увлеченная психоанализом, она настаивала на том, чтобы Генри записывал воспоминания своего детства — первые друзья, первые влюбленности, первые страхи, первые крушения надежд. Эти записи и легли в основу «Черной весны», книги, которую Миллер называл «книгой Анаис» («Тропик Козерога» стал «книгой Джун»). На форзаце «Черной весны», вышедшей в 1936 году в Париже в издательстве «Обелиск-пресс», стояло посвящение. Эпиграфом автор избрал изречение Мигеля Унамуно: «Могу ли я быть таким, как представляю себя я сам, — или каким видят меня другие? Именно тут эти строки становятся признанием существования моего неизвестного и непознаваемого «я», которое неизвестно и непознаваемо мной самим. Именно тут я творю легенду, в которой должен себя похоронить».
Мужчине не дано знать того одиночества, которое знакомо женщинам. Он лежит себе одиноко в утробе лишь для того, чтобы набраться сил, кормится потихоньку, а потом поднимается и выходит в мир, где его ждут работа, сражения, искусство. Он не одинок. Он занят делом. Женщина тоже занята, но она ощущает себя порожней. Чувственность для женщины не только волна наслаждения, окатывающая ее, не только электрический разряд от контакта с другим телом. Когда в ее утробе находится мужчина, она чувствует себя заполненной, и потому каждое любовное слияние для нее — это впуск мужчины внутрь себя, акт рождения и возрождения, вынашивание ребенка, мужчины вынашивание. Мужчина находится в ее лоне и возрождается каждый раз по-новому с желанием действовать и быть. Но высший пик наслаждения для женщины — не роды, а минуты, когда мужчина все еще остается в ней.
…Генри, Фред и я в кафе. Разговаривали, выпивали, спорили, рассказывали истории, пока не погасли уличные фонари, не растаяла ночь и прозрачный, робкий, окрашенный сиеной не возник в окнах рассвет. Рассвет! Я повторяю, рассвет. Генри полагает, что рассвет сам по себе — всегда новая жизнь. А я не могла объяснить, что почувствовала. Но в первый раз не ощущала в себе непреодолимого побуждения бежать; в первый раз предавалась братству, слиянию, доверчивости без внезапно ощутимой необходимости обратиться в бегство. Всю ночь я пребывала там, не испытывая желания резко обрубить все, без болезненного сознания разъединенности, постоянной нужды в своем собственном мире, невозможности остаться вне, в тот или иной момент отрешиться от всех. В тот раз такого не было; рассвет пришел как первый пролом в моем мучительном неумении приспосабливаться. (Единственный способ, который помогал мне скрыть от самой себя эту вечную драму разлада, — сослаться на часы. Пора уходить, именно отсюда и сейчас я должна уйти, потому что так тяжко для меня это общение, так напряженно я себя чувствую, с трудом терплю эту длительную пытку.) Я никогда не понимала, что происходит. На вечеринке, делая визит в какой-нибудь дом, за игрой, в кино вдруг возникала тревога. Я не могу больше выдерживать роль, казаться одной из них, звучать в унисон. Где же выход? Только в бегстве. В немедленном бегстве. Было ли это неумением приложить усилия, чтобы убрать препятствия, снять барьеры, раздвинуть стены? Но вот тихо подкрался рассвет и застал меня сидящей вполне уютно с Генри и Фредом, и это был рассвет освобождения от безымянного врага. Ведь к полуночи я всегда превращалась в одинокого, отрешенного странника.
Это бывало так, словно я оказывалась чужестранкой в незнакомой стране и меня там радушно принимали, и я чувствовала себя как дома, и участвовала во всех праздниках, присутствовала на крестинах, свадьбах, похоронах, меня приглашали на банкеты, на концерты, на дни рождения, и вдруг мне становилось ясно, что говорим мы на разных языках, и вообще все это лишь вежливая игра.
Что же мешало мне, не впускало туда? Сколько раз меня вводили или я входила сама в полную людей комнату с искренним желанием смешаться с ними, стать одной из них. Но страхи мои оказывались сильнее моего желания, и в результате этой борьбы чувств я убегала. Только однажды я дала процессу обратный ход и тогда испытала, каково быть отторгнутой и оставленной теми, кто болтал и смеялся, вполне довольный общением друг с другом. Да, из этих заколдованных кругов я выходила сама, но выходила потому, что чувствовала, что круг этот как бы обнесен электрической оградой против воров и я не могу пересечь эту линию, не могу пренебречь ею. А мне страстно хотелось быть частью каждой яркой, радостной минуты, каждым мгновением жизни; хотелось быть смеющейся и плачущей женщиной, женщиной, которую страстно целуют; женщиной, которой прикалывают цветок на платье, женщиной, которой помогают подняться в автобус; женщиной, которая склоняется из окна, женщиной, которая выходит замуж и рожает детей.