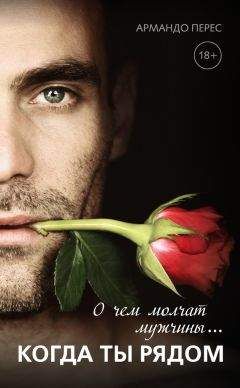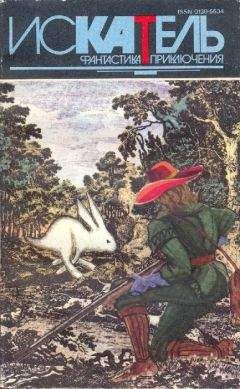Никогда и ни с кем у меня не было ничего подобного, этого желания не отрываться от нее, затеряться в ее глубине, и это приводит меня в смятение.
Наконец я обессиленно опускаю голову ей на грудь, благодаря бога за то, что ствол каштана не дает мне рухнуть на землю. Очень медленно ее дыхание и мое приходят в норму.
– По-моему, ты сломал мне спину, – говорит Ева, и голос ее дрожит.
Я испуганно смотрю на нее, но вижу, что она улыбается, и улыбаюсь в ответ.
– Я и забыл, что ты всегда выражаешься туманно, – говорю я.
– За исключением а-а-а, да-да и еще-еще? – смеется она.
– Ты еще забыла «дай мне его», – добавляю я, вызывая у нее этот ее редкий, веселый и такой естественный горловой смешок.
– Я запомню это, – обещает она, – при условии, что ты меня развяжешь.
Я освобождаю ее из неудобной позиции, массирую ей плечи и велю подвигать затекшими руками. Я не в силах оторвать глаз от ее тела, белого с золотым отливом в лучах заходящего солнца.
– Ты словно с картины эпохи Возрождения, – говорю я ей, и снова в моем сознании мелькает какой-то смутный образ, но она перебивает меня раньше, чем мне удается уловить его:
– Я предпочла бы быть написанной Пьеро делла Франческа. В его «Мадонне»[24], которая висит в Брера, той, что сидит под висящим над головой яйцом, столько мудрости. Она само совершенство… – Ева смотрит на свою руку, мягко массируя ее. – Завтра у меня будут синяки… – Она качает головой, но не кажется расстроенной этим. – Я пришла посадовничать немного… – Она показывает на стоящий у каштана горшок, но я не смотрю на него.
– Я это уже понял. Но почему не в среду? – спрашиваю я, загипнотизированный движением ее белых рук, колыханием ее маленьких грудей.
Она умолкает, замирая. Смотрит на меня.
– Ты недоволен тем, что я пришла? – спрашивает она.
– Тебе показалось, что я недоволен?
– По правде говоря, раньше нет. – Ее руки повисают вдоль тела, и она глядит на меня, как хорек, готовый обратиться в бегство. – Но сейчас, пожалуй, да.
Неправда, я рад тому, что она пришла. И тем не менее я ощущаю, как во мне нарастает какое-то беспокойство. И не понимаю его причины. Может быть, из-за того, что за несколько минут до этого она полностью завладела мной, заставив меня потерять голову, чего никогда не случалось с другими женщинами. Или потому, что наслаждение, которое я испытал с ней, изумило меня самого. Будь я из пугливых, я бы ужаснулся этому. Но нет, вряд ли причина в этом. Мы стоим друг против друга, обнаженные, на виду у всей стройки, будто околдованные. Но колдовство недоброе. Это как если бы теплый вечер становился все холоднее и холоднее.
– Ее звали Чечилия, – говорю я неожиданно, точно сдвигая тяжелый камень. – Она была подругой моей двоюродной сестры.
– Ты словно с картины эпохи Возрождения, – говорю я ей, и снова в моем сознании мелькает какой-то смутный образ, но она перебивает меня раньше, чем мне удается уловить его.
Я умолкаю. Она не торопит меня, продолжая стоять передо мной, слегка склонив голову набок и как бы слушая меня всем телом, с этой своей особенной грацией.
– Мне было шестнадцать, ей двадцать два, и она была замужем, – продолжаю я.
И я снова на Кубе, снова лето, солнце и запах пыли.
Я таскал ей насекомых, которых с мальчишеских лет любил ловить в полях и лесах, надеясь открыть какой-нибудь новый вид. Благодаря тому, что я надоедал всем своими находками, а некоторые из них были действительно интересными, меня начали удостаивать вниманием даже профессора Академии наук. Но моя энтомологическая страсть вскоре поутихла, и мотив, двигавший меня на поиски, переменился.
Теперь меня подхлестывал смех Чечилии, когда я приносил ей очередную букашку, или ее притворный испуг, с каким она обращалась в бегство, дрожь возбуждения в моих мышцах, когда я устремлялся за ней в погоню, все дальше и дальше от дома, вдоль берега реки, в тень зарослей, где мы занимались с ней любовью тысячу раз на дню.
– Чечилия сделала из меня мужчину, – говорю я, с усилием возвращаясь из тех далеких и сладких летних дней. – Я хотел бы любить ее вечно, я хотел убежать куда-нибудь вместе с ней. Но я этого не сделал.
– Почему? – спрашивает с удивлением Ева, слегка взволнованная изменением моего настроения.
И тут точно плотину прорвало: точно я должен выговориться или сейчас, или никогда.
– Она забеременела, когда ее муж был далеко на заработках, а скрыть это было уже невозможно. Мы должны были найти выход из положения. И Чечилия нашла его.
– Она вернулась к мужу?
– Да, она вернулась к нему, – подтверждаю я. – Через полтора месяца она, обманув его в сроках, призналась, что беременна. А потом сделала аборт.
– Не может быть!
– Тем не менее это так. А что ей оставалось делать? – взрываюсь я.
Легко ей говорить «не может быть» таким голоском.
– Жизнь женщины в других краях намного труднее, чем твоя, моя дорогая.
Она дернулась, словно я дал ей пощечину.
– Прости, – бормочет она. – А ты? Что сделал ты?
– Я? Ничего, – отвечаю я с горечью.
Я сейчас переживаю ту же боль, то же смятение и бессилие, как тогда.
– Я оставил ее один на один с ее проблемами и ушел. Сбежал. – Я сжимаю кулаки. – И это самое горькое воспоминание в моей жизни. Единственное. С тех пор я больше не сбегал ни от одной.
– А может быть, с тех пор у тебя не было другой женщины, от которой ты был бы вынужден сбежать?
Я с изумлением смотрю на нее. Я предполагал в ней сочувствие. Отчего такая жестокость?
Я отворачиваюсь, не отвечая.
– Ты до сих пор ее любишь? – спрашивает Ева.
Резонный вопрос. Но такого же ответа не существует.
– Не в этом дело. А в том, что все кончается. И ничего не имеет никакого значения.
– Чечилия сделала из меня мужчину, – говорю я, с усилием возвращаясь из тех далеких и сладких летних дней. – Я хотел бы любить ее вечно, я хотел убежать куда-нибудь вместе с ней. Но я этого не сделал.
До сих пор я никому не рассказывал это, и меня поражает, насколько глупо может прозвучать то, что доставляло столько мук. Ева протягивает ко мне руку, верно, с тем, чтобы погладить меня. Но я почти со злостью отвожу ее. Теперь я не нуждаюсь в ее сострадании. Как бы то ни было, она не может понять меня. Как странно, совсем недавно мы были такими близкими, а сейчас я чувствую, как она далека от меня, словно я захлопнул перед ней дверь.
Я снова отворачиваю лицо, и в поле моего зрения попадает цветочный горшок, который она поставила рядом с каштаном. Из него торчит какое-то растение высотой сантиметров сорок, с темно-зелеными листьями и маленькими бутонами.