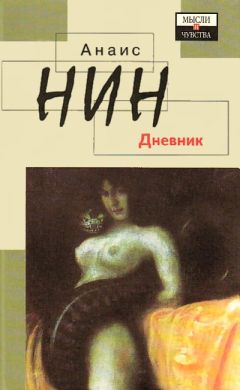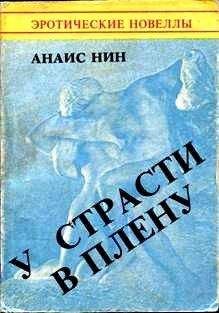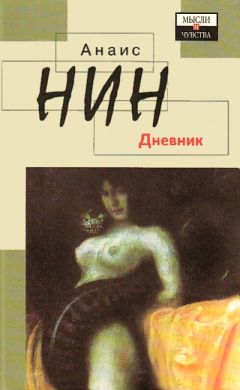У нее глаза ворожеи и острый, стремящийся вперед профиль.
Обе мы уже хорошо выпили, и она принимается рассказывать о некоем человеке из Нью-Йорка. Очень благородный и очень красивый мужчина. Так она что, влюблена в него? Тут она начинает мяться, произносит каждое слово, будто сдает врагу позицию. Неужели боится, что я выдам ее Генри?
А она жалуется, что ей так и не встретилась большая любовь, а встречались только большие эгоисты, старавшиеся использовать ее для себя.
И мне начинает видеться сквозь всю туманность и бессвязность ее речей, что она рассказывает о былом Генри, а я-то знаю совсем другого.
— Я ждала от Генри, что он сотворит чудо из моей жизни, моих рассказов, моих друзей, поднимет их, прибавит им многое. А он вместо этого их принизил, сделал все убогим и безобразным…
Ну да, она хотела войти в литературу, как характер, во всем своем великолепии, богатстве и дикарстве.
— Я создам из тебя великолепный характер, Джун. Мой портрет тебе понравится.
— Но только не так, как в этой поэме, в «Доме инцеста». Я там ничего не поняла, это не я.
Генри не может навязать мне свою манеру, потому что я все делаю по-своему. И ее портрет могу сделать тоже по-своему.
Вдруг она сказала:
— Когда я приехала из Нью-Йорка в первый раз, я думала, что ты, конечно, стала уже подругой Генри и изображаешь любовь ко мне, чтобы выдать меня ему.
Я вспомнила сказанное мною Генри: «Если я когда-нибудь выясню, что Джун вас не любит…»
— Ну, а теперь? — я взглянула на нее, и от чувства вины у меня навернулись слезы.
Джун приняла их за слезы умиления, это ее растрогало, и она положила свою руку на мою.
— Теперь я тебе верю.
И начала сбивчиво и бессвязно рассказывать о двухлетней связи с тем самым Джорджем, красивым, как бог, но лишенным основательности. «Я до безумия хотела его полюбить и не могла. А Генри, как бы то ни было, я была нужна. Он без меня просто бы сгнил».
Что же это, эхо большой любви или же всего лишь живучей, неизлечимой одержимости, охватившей их обоих?
— На днях Генри, разговаривая со мной, делал какие-то бессмысленные, дикие жесты, дергался, как марионетка. Но я не спрашивала, что с ним, меня это теперь не волнует.
Генри говорил Джун, что все ее жертвы придали ей столько величия, что на благодарность рассчитывать нечего.
— А что ты чувствовала, когда одолжила ему машинку, самой пришлось писать от руки, а он твою машинку снес в ломбард, чтобы купить для всех нас выпивку? Ничего не имела против?
Не со злорадством ли задает она эти вопросы, подчеркивающие бестактность Генри? Я вспомнила о его предостережении: «Она тебя попробует против меня настроить».
…Клиши. Джун, Фред, Генри и я сидим на кухне за обеденным столом. Генри прицепился к одной моей фразе, так, мол, по-английски нельзя сказать. Я защищаюсь, как могу. И говорю, между прочим, что мне снилось, будто я вся покрыта грибами.
— Ничего удивительного, — сказал Генри, — ты ведь существо эзотерическое.
— Генри терпеть не может интеллигентных и экзотических женщин, — откликнулась Джун.
— Le fiance des bonnes[54], — ухмыльнулся Фред.
Вспомнив о всяких трудностях моего отца с прислугой, я ощетинилась. Впрочем, беседа продолжалась. С игрой слов, подтруниванием, поддразниванием, с дуэлью острот, с намеками. Алкогольные абстракции. Джун начала терять точку опоры — она осушила чуть ли не целую бутылку Перно.
И мне показалось, что все мы понемногу сатанеем.
И тут Генри вдруг произнес так жалобно, так по-детски: «Ты меня не бросай, Анаис». Джун смутилась, Фред что-то съязвил. А Генри между тем напился. Он тряс головой, как медведь, которого вожатый заставляет танцевать. Он и вправду пританцовывал и рычал. Джун пришла в дикое возбуждение и стала необъяснимо свирепой.
Разговор кончился, потому что Генри почувствовал дурноту и ему пришлось прилечь. Джун все не могла угомониться. Она уговаривала растянувшегося на своей кровати Генри выпить еще чего-нибудь для прояснения мозгов. Ей никак не удавалось убедить его, и тогда она сунула мне полный стакан и попросила отнести его Генри. Я подумала, что таким образом ей надо было убедиться в моей власти над ним, но теперь я понимаю, что она просто хотела остаться вдвоем с Фредом.
Дав Генри выпить и возвращаясь на кухню, я увидела сквозь стеклянную дверь их сблизившиеся головы, а войдя, услышала как они отпрянули друг от друга. Джун сидела широко раздвинув ноги, помада размазана по губам, юбка задралась до колен, бретельки спустились с плеч. Больно было видеть ее такой: взъерошенной, неопрятной, разлохмаченной, с лицом, сразу погрубевшим от выпитого. Я смотрела на нее с укором. Она почувствовала мою боль и забормотала: «Анаис, Анаис, я люблю тебя. Ты умная и безжалостная, все вы умные и безжалостные, потому я и напилась. Я жутко пьяная». Ее кинуло в мою сторону, и я едва успела ее подхватить. Глаза у нее наполнились слезами. Я повела ее к кровати. До чего же тяжелой она мне показалась (забавную, должно быть, картину представляли мы с Джун, почти лежащей на мне). Мы доковыляли до комнаты Генри. Он очнулся и помог мне уложить Джун. А она хохотала. Потом заплакала. Потом ее вырвало. Я положила мокрое полотенце ей на лоб, она сорвала его и швырнула в меня. И опять забормотала: «Я всегда хотела напиться пьяной, Генри, так, как ты напиваешься. Вот теперь я пьяная. Я отобрала у тебя твое пьянство». Но на самом деле она была не настолько пьяна, чтобы ничего не соображать. И осознавала свои страхи, сомнения, подозрения и выплескивала их наружу вместе с самоосуждением и детским призывом о помощи и защите.
— Генри, Анаис, какие вы оба умные и жестокие. Умные и жестокие. Я вас боюсь. А где Джордж? Джордж! Тебя я нисколько не боюсь. Я очень больна. Я насквозь прогнила. Оставь меня, Анаис, не подходи ко мне. Я ужасно больна. И устала. Мне хочется отдохнуть. Покоя хочется. Почему ты меня не успокоишь, Анаис? Оботри мне лицо. Дай холодное-холодное полотенце. И уходи. Отвратительно. Отвратительно пахнет.
Генри топтался, вытирая пол, ополаскивая полотенце. Растерявшийся, сбитый с толку и все еще не протрезвевший.
А меня с души воротило: я хотела освободиться разом от всей своей жизни, от всего, что слышала, видела, от моих иллюзий, фантазий, от приключений, от выпивок, разговоров, оргий, от всех ощущений.
Джун приняла мою серьезность за упрек, за моральное осуждение, но это было не то. Это было отречением от грязи. От Джун, в черном шелковом платье валявшейся в рвоте. Грязь и пустота. Тоска от пустоты. Джун тошнило, а я чувствовала, что меня рвет всей моей жизнью. Вином, что мне приходилось пить, телами, прикасавшимися к моему телу, всеми поцелуями, всеми кафе, всеми кухнями, поддельными, внешними восторгами. Я тоскую по истинным восторгам, восторгам от только что написанного, только что прочитанного, по экстазу музыки, философии, созерцания. Я тоскую по той комнате, которую вижу сквозь открытые окна разлинованной книжными полками, парящей над жизнью. Там никогда и никто не свяжется с подонками, никогда и никто не совершит вынужденной посадки. Джун видит в моей печали суровое осуждение, но это не так. Я снова кладу холодное полотенце на ее лоб. Я успокаиваю ее. Я говорю ей, что я вовсе не жестокая, что я люблю ее. Она уже похрапывает. Я ложусь рядом с ней на кровать не раздеваясь, даже не сняв жакета. Генри приносит нам кофе. Джун пьет его медленными глотками. Уже светает. Джун спрашивает: «Ты придешь вечером?»