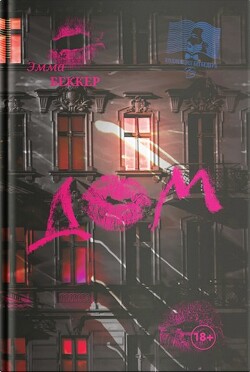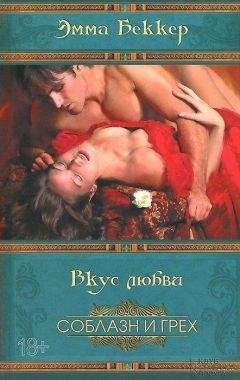Вдобавок есть и такие дни, когда я перестаю что-либо понимать в этом деле. Когда прихожу слишком поздно и первый клиент уже ждет, когда начинаю смену, не успев ни нанести макияж, ни выкурить сигаретку, а именно это позволяет мне преобразиться и стать Жюстиной… И мне нужно тотчас позаботиться обо всем: о полотенцах, о музыке, об интимной смазке — хоть в моей голове еще полно литературных размышлений или фантазий о каком-нибудь придурке, встреченном пару минут назад.
Объяснения этому нет никакого, но мыслями я отсутствую. Одному богу известно почему. Я не здесь, мои стоны звучат фальшиво, я не готова… и кажется, что мужчины догадываются об этом, потому как у них не такой хороший стояк, как обычно. Я чувствую это: они медлят, прежде чем кончить. Помучившись недолго угрызениями совести, я вскоре начинаю презирать их, как официант, который внезапно начинает ненавидеть клиента, указывающего ему на небрежность или оплошности по неосмотрительности. Я виню во всем их, и самые мелкие детали физической любви становятся для меня невыносимыми: у одного член недостаточно твердый, другой потеет, как осел, и просто нет возможности терпеть прикосновения его голого, лоснящегося торса (кстати, если хоть капля его пота попадет мне на лицо, я, черт побери, расцарапаю этого осла до крови). Он хочет поцеловать меня и, так как я уворачиваюсь, довольствуется тем, что лижет мне ухо. Другой, которому я ясным текстом запретила любые анальные приветствия, никак не хочет убрать свой палец от моей задницы. У еще одного запах, который, пусть и нельзя назвать ни хорошим, ни плохим, действует мне на нервы, и, к тому же, какой шум этот тип издает, полизывая меня внизу. Такой, что мне приходится затыкать уши. Надеюсь, что это выходит незаметно, — а если это не так, то пусть катится куда подальше!
Может, моя внезапная холодность делает их недееспособными, оттого что они привыкли к моей доброте? Я устаю чередовать вялые объятия и бесполезный минет. Моя глотка в дни плохого настроения сверхчувствительна. Тогда я вытаскиваю презерватив из упаковки так, как отклеивают пластырь, и смазываю себе руки интимным гелем. Я начинаю нежно, а потом продолжаю с необдуманной верой в силу жаркого прикосновения моей голой кожи и в неописуемые изыски массажа. Но мужчина медлит, и я начинаю растрачивать свой талант: умелые ласки превращаются в яростную тряску руками доярки. Все это продолжается до тех пор, пока его неуверенный приятель в моих руках не сжимается, словно шагреневая кожа. Полное поражение с моей стороны. Черным по белому — недостаток профессионализма. Вот что случается, когда работаешь плохо. Ты хотела разделаться с этим побыстрее, приложить как можно меньше усилий, и вот что ты получила. Где, по твоему мнению, ты находишься, ну в самом деле? Это работа для художника, черт возьми. А ты что думала? Посмотри на себя: у тебя нет ни малейшего желания разговаривать, тем более заниматься любовью. Ты здесь только потому, что ненавидишь себя за то, что потратила шестьсот евро в бутике Agent Provocateur. Глупая курица! Шестьсот евро за один комплект. Не замечаешь, как действительно становишься шлюхой, это уж точно. И ты думаешь, что этот парень может позволить себе час с тобой? Он социальный работник, е-мое, женат, и у него дети. Он идет на жертву прямо сейчас, а ты пыхтишь от бешенства? Он оплатил час твоего времени, — а это в два раза меньше, чем время, проведенное тобой вчера в Tinder, когда ты, сидя в кресле, красила ногти на ногах. Где твое сердце? И уж не говоря про сердце, где твои принципы? Те знаменитые принципы, которые отличают тебя от других проституток?
Тогда я снова становлюсь любезной. Достаточно любезной и нежной, чтобы мои руки, по сравнению с его собственными, стоили потраченных денег. И от того, как он кончает, рыча в экстазе, меня охватывает порыв благодарности, смешанной с привязанностью. Он выглядит таким счастливым. Благодарит с усталым упоением на лице. Тебя не трогает, тебя, каменное сердце, что за секунду нежности он прощает тебе пятнадцать минут, в течение которых ты ожесточенно доила его? Не трогает, что все это могло быть так просто?
И раз уж я худо-бедно закончила свой шедевр, то решительно стану ласковой с ними со всеми, сколько бы их ни было. Буду гладить им волосы, воркуя, смягчившись и опьянев от осознания того, что презерватив полон, от моих сожалений и от странной солидарности по отношению ко всем этим мужчинам, пришедшим сюда, чтобы, уходя, почувствовать себя красивее. Это немного напоминает поход к парикмахеру: нет ни единой гарантии, что сработает.
Strange Magic, Electric Light Orchestra
Когда в начале сентября мой друг Артур стал отцом, меня не было рядом, чтобы отпраздновать это. Нет, я бездельничала на юге родины, сама уверенная в том, что беременна. Поэтому шампанским это дело, сидя на диване в квартире близ Венсенского леса, отметила другая. Это была Анна-Лиза: после десяти лет любви и смутных обид она в конце концов решила смириться с тем, что она не та самая. В течение этого десятилетия было немало кровавой мести и трагических диалогов, произнесенных на лестничной клетке возле ее квартиры, и так часто эти встречи казались последними. Однако, зная его так давно, Анна-Лиза поняла Артура. Пусть она плакала и кричала порой, Анна-Лиза знала, что ничего стоящего и долгосрочного не родится из гнева по отношению к этому парню. Поэтому она и была всегда поблизости, когда он не хотел быть один, а он всегда открывал свои двери ей, когда от одиночества уставала она. Они общались ежедневно. Анна-Лиза была из тех бывших, с которыми подружки Артура не знали, что делать, и в итоге мирились, соглашаясь жить с этой тенью. Они были смутно уверены, что трусливо подписываются на некую измену, доказательства которой никогда не обнаружатся. В сущности, Анна-Лиза была вроде лучшей подруги, знающей про Артура все, и именно ей он позвонил тем вечером, когда родилась его дочь.
Какой бы ни была смутная, более или менее осознанная боль, вызванная звонком Артура, провозгласившим «Она родилась!», — Анна-Лиза пригласила его к себе через три дня после рождения девочки. Из холодильника достали шампанское, и подруга, у которой еще не было детей, проявляла энтузиазм. Такой, какой ждут от женщин в присутствии молодого отца. Артур, опьяненный своим новым статусом и разомлевший рядом с благосклонным слушателем, немного позабылся, углубляясь в скучные рассказы об эпизиотомии[14] и разрезании пуповины, о том, как не помнишь себя от радости и начинаешь любить всю человеческую расу. Не задумавшись ни на секунду, что в этих размышлениях не было места для Анны-Лизы.
Он не удивился, когда она сняла рубашку, сказав, что надо бы произнести еще один тост. Артур раскрыл ей свои объятия с умиротворенной радостью, убежденный, что тем самым празднует торжество Женщины, чудесную плодовитость ее отверстий, эту слепую и глупую радость, что создает детей. Она занималась с ним любовью на славу, полная общительного транса, придумывая ради него опасные позы, лишающие его дыхания, пока он цеплялся руками за ее молодое гибкое тело. Новоиспеченный отец подумал про себя, а после сказал ей вслух: «Я никогда этого не забуду».
Потом, упав на него, с трудом пытавшегося отдышаться и отупевшего от обильной эякуляции, она улыбнулась и погладила его щеку. Она вдруг полностью контролировала себя: «Была рада сделать тебе приятное». Вот такой подарок она преподнесла ему — перформанс по случаю праздника. По их объятиям никак нельзя было заподозрить подобного, ну, ничего конкретного, ничего осязаемого. На груди у нее еще краснели пятна, под отяжелевшими веками сверкал насмешливый взгляд. И Артуру стало интересно, откуда появилась эта насмешливость. Была ли причина в оргазме? Или в том, что она довела его до оргазма? Ей было приятно подарить ему эту пылкую страсть: она сделала это от чистого сердца, кстати, можно было бы даже сказать, что любя. Она осознавала каждый жест, каждую позу, каждый разгоряченный взгляд сквозь длинные темные волосы. Возможно, она осознавала и каждое сжатие своего влагалища в тот момент, когда, может быть, кончила, может быть — мир внезапно стал полон предположений. Не то чтобы это что-то меняло: удовольствие оставалось удовольствием, даже если в случае с Анной-Лизой его спровоцировало не только простое желание. И он подумал про себя: «Возможно ли в действительности, что они могут быть такими двоякими, иметь три или четыре лица? Могут ли они быть настолько устрашающими, что их лицемерие никак нельзя проконтролировать? Вправду ли нужно мириться с тем, что с ними ты никогда не можешь быть уверенным на сто процентов, что нужно просто слепо доверять им или вечно сомневаться, тем самым рискуя никогда не познать счастья?»