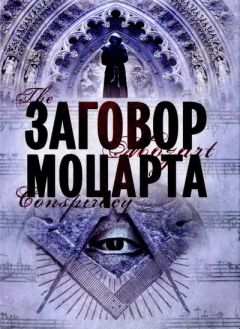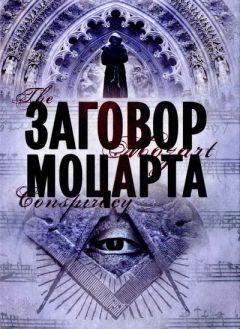Я улыбнулся. Ну что ж, бинго! Так я и думал.
— Без-воз-мез-дно, — прогнусавил я, — то есть даром, госпожа Неберо, получить утерянную коллекцию из моих рук мог бы только один человек — её настоящий владелец, к тому же потерявший при ограблении сына. В крайнем случае, его вдова, дети, внуки. Ты работаешь на его семью?
Она засмеялась. Громко. Заразительно. Фальшиво.
Подозрительно. Очень подозрительно.
— Я не имею права разглашать имя человека, на которого работаю.
— А я и не спрашиваю. Просто передай этому человеку, что даром, то есть в обмен на мою безопасность, было ровно до того момента как я увидел отблеск линзы оптического прицела, смотрящего на меня. В тот момент, когда пуля ударилась в грудь человека, что меня заслонил, акции твоего хозяина автоматически упали до нуля. А когда за мной закрылась вот эта калитка, — показал я на обитую железом дверь с глазком и «кормушкой» — окошко, через которое подавали еду, — а всё, что принадлежит мне, стало стремительно превращаться в пепел, начал крутиться счётчик. И чем активнее стараются меня нагнуть, мне плевать кто, Шахманов, те, кто стоит за ним, твой хозяин, или те, кто против него, счёт этот всё больше и больше. И когда я отсюда выйду — а я выйду! — я его предъявлю.
— У меня нет хозяев, я сама по себе, — передёрнула она плечиками.
— Правда? — хмыкнул я. — Это ж скольким надзирателям в этой тюряге ты дала, чтобы тебя сюда проводили с такими почестями?
Но то, что она не хотела говорить, я услышал. А, впрочем, и так уже знал: она здесь прежде всего ради себя, а уже потом ради того, на кого работает.
— Грош цена тебе как парламентёру, если ты не в курсе, что я давно не клюю на голые сиськи. Так что пусть твой хозяин подотрётся той картинкой, где он спит и видит, как нищий, никому не нужный, опущенный Моцарт на коленях несёт ему свои секреты и умоляет их взять. Передай ему — вот! — хлопнул я по бицепсу и резко согнул руку, выставив средний палец.
Она засмеялась. Громко. Заразительно. С претензией на искренность.
— Шут ты, Моцарт.
— Да, я шут, я циркач!.. Так что же!.. — пропел я басом, взмахнув рукой. — Пусть меня так зовут вельможи…
— Безумный, отважный, но шут, — покачала она головой.
— Да хоть клоун. Скажи своему хозяину, чтобы послов ко мне больше не присылал. Захочет поговорить — знает, где меня найти. Свидание окончено, — я пересёк камеру и постучал в дверь. — Охрана!
— Я слышала ты женат, — послушно пошла она следом, делая вид, что ей всё равно. Но, подозреваю, именно за этим пришла, а не за тем, чтобы озвучить мне условия сделки.
— Нагло врут, — улыбнулся я. — Я счастливо женат.
И снова этот смех. Звонкий. Смелый. И всё такой же натужный.
— А ты? — спросил я, когда она отсмеялась. — Замужем?
— Счастливо женат? — словно не услышав мой вопрос, она подняла с койки Женькино письмо. Побежала по нему глазами, улыбаясь, кивая.
Я едва держал равнодушную мину. Едва справлялся, чтобы не вырвать лист у неё из рук, не заскрипеть зубами, не сжать кулаки. Останавливало меня только одно — письмо уже читал цензор, а, значит, его может получить кто угодно. У зэков нет ничего личного.
— Ты так усердно старался всех убедить, что с этой девочкой у вас всё по-настоящему, что даже женился? — перевернула она лист, читая дальше.
— Неужели зря? — делано удивился я.
— Зря, — отвела она руку с письмом в сторону и посмотрела на меня. — И чем сильнее ты старался, тем меньше тебе верили. Эта же та самая девочка, чья мать работает в том же музее, что и твоя? Какое чудное совпадение!
— Бывает, — невинно пожал я плечами.
— Та самая, что случайно из знатного рода Мелецких-Стешневых? Правнучка княгини, внучка знаменитой художницы. Чья семья регулярно отдыхает в Италии на озере Комо на бывшей вилле их бабки, знакомой с Муссолини? Дружит с хозяином небольшого швейцарского часового заводика в Люцерне? Как я умилялась этой историей, когда узнала, что ты спёр наследницу знатного рода прямо в день её совершеннолетия. Так боялся, что тебя опередят?
Я демонстративно оглянулся.
— Да вроде очередь из женихов не стояла.
Она проигнорировала шутку. И лицо её ожесточилось.
— Ну глупышка понятно, влюблена, — небрежно бросила она письмо на пол, — кто бы сомневался, что ты её очаруешь. Но раз она до сих пор пишет тебе такие проникновенные письма, значит, ещё не знает, как жестоко ты над ней посмеялся?
Теперь не улыбались даже её губы. Пронзительно зелёные глаза смотрели холодно. Я точно знал почему. И мне тоже стало не до смеха.
— Слухи о моём бессердечии сильно преувеличены. Я приехал, Ева. Приехал тогда в аэропорт.
Она сложила руки на груди, давая мне слово.
— На тебе было пальто, что ты сшила по лекалам прабабушки. И шарф, что подарила умирающая от лейкемии подруга. Ты всегда надевала его, на счастье. Он был разноцветный радостный и подходил ко всему, кроме…
— …кроме этого пальто, — добавила она, нахмурившись.
Но я был уверен: не дрогнула. Не убедил.
И что бы сейчас ни сказал — убедительнее бы не стал.
Она желала отмщения, расплаты. Возмездия.
Ни истина, ни справедливость её не интересовали.
— Я стоял в старом здании аэропорта, что тогда только начали перестраивать, — всё же сделал я ещё одну тщетную попытку. — Как раз напротив. Помнишь, там такое было? Тёмное, заброшенное. Сейчас его уже открыли. А у частного самолёта, суперджета с острым носом, у которого стояла ты, был красный хвост с белой надписью. Я приехал, Ева.
Я почти слышал этот вопрос, что повис в воздухе: Тогда почему?
И уже готов был сказать: Не знаю!
Клянусь, тогда я не знал почему так и не спустился. Почему так и остался стоять, сжимая в руке коробочку с кольцом.
Но она не спросила.
И хорошо. Я бы соврал.
Потому что сейчас знал: просто это была не Она.
— Зря ты думаешь, что победил тогда, — встала она в проёме наконец открывшейся двери. — Ты потерял больше.
— Возможно, — вздохнул я.
— Нет, совершенно точно. И… я не замужем, раз уж ты спросил, — улыбнулась она и посмотрела, словно сомневалась: сказать или нет?
Не сказала. Смерила взглядом. Усмехнулась. И вышла.
Проклятье!
Я стукнул кулаком в стену, едва с грохотом закрылась дверь.
И бил, бил, бил, пока на побелке не стали оставаться кровавые следы, а костяшки уже саднило так, что я с трудом терпел.
Мне надо выйти отсюда! Выйти во что бы то ни стало! Или я потеряю самое дорогое, что у меня есть — именно этого я теперь боялся больше всего — моё Солнце.
Я поднял Женькино письмо, прижался к нему губами, вдыхая запах бумаги.
Упал на шконку. Невидящими глазами уставился в строки.
И вдруг, словно сквозь них, в том месте, где моя девочка писала про свой день рождения, увидел лицо человека, с которым разговаривал её отец, когда мы танцевали.
«Коротышка в дорогом костюме с приличным брюшком и блестящим носом, что был похож на Пьера Безухова», — описала его Женька, когда гадала кто же её «жених».
Но я видел не его, а того, кто стоял рядом, был раза в три старше двадцатилетнего Толстовского героя, не так добр и простодушен, высок, статен, породист и скорее сошёл бы за постаревшего Болконского.
И он смотрел не на Женьку, а прямо на меня.
Гость господина Разумовского, что представил нас друг другу на показе, меценат фонда князя Дмитрия Романова, на чей благотворительный бал мы не пошли, владелец того самого маленького часового заводика в Люцерне, о котором словно вскользь упомянула Ева… Андрей Ильич Шувалов.
Я видел его за свою жизнь несколько раз. При разных обстоятельствах.
Кажется, я знал таинственного работодателя Евангелины.
И, кажется, мой ответ ему не понравился…
Глава 7. Евгения
«Сергея перевели в общую камеру. Господи, в общую камеру…» — всё повторяла я, меря шагами гостиную в квартире родителей. Эти новости пришли от адвоката только что.