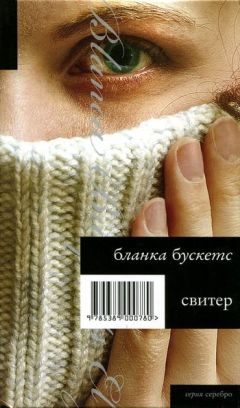Мне нужны его эмоции. Нужны так сильно, что всё внутри дрожит от нетерпения, и всех прежних моментов его позорной слабости, цепляющей искренности, восхитительной беспомощности становится мало, просто мизерно мало, и хочется вцепиться в него и кричать, шипеть, скулить: «Дай мне ещё!»
Кирилл слегка наклоняется, чтобы открыть бардачок, и рука его ложится мне на колени и остаётся на них так долго, что в какой-то момент это начинает казаться нормальным. Как и то, каким восторгом, удовольствием, похотливым желанием отзывается моё тело на вполне обычное прикосновение.
— Это ему передала твоя подружка, — наконец поясняет Кирилл, медленно убирая руку и тем самым позволяя сфокусироваться на лежащих в бардачке распечатках. Я тянусь за ними, но вскользь задеваю спрятанный под ворохом бумаг предмет, неожиданно обжигающий пальцы ледяным металлом.
Аккуратно приподнимаю листы вверх и разглядываю лежащий внутри пистолет. Под яркой лампочкой, встроенной в бардачок, он выглядит как на витрине магазина, и можно в подробностях рассмотреть все надписи и цифры, высеченные на матовой чёрной поверхности, которая второй раз кажется приятно-прохладной на ощупь.
Всё по-настоящему, Маша. Очнись! Тебе ведь на самом деле это не нужно.
— Спросишь, в курсе ли я, что эта штука умеет стрелять? — от резкого звука его голоса я испуганно отдёргиваю руку от пистолета, выхватываю сразу все листы, не разбираясь, и закрываю бардачок.
Он снова, — или всё ещё, — очень зол. А у меня нервы скручиваются в тугой кнут, и тот с размахом хлещет по всем годами выстраиваемым опорам поведения, сшибая их одну за другой: осторожность, рассудительность, целесообразность, рациональность. Они больше не имеют смысла.
Не сегодня. Не сейчас. Никогда.
Мы заезжаем на парковку в его доме и меня хватает только на то, чтобы изобразить удивление тем, что мы приехали именно сюда. Впрочем, уверена — он не поверил. Или вообще ничего не заметил, из последних остатков самообладания стискивая руль до побеления костяшек.
Я чувствую его ярость. Вот она, растекается чёрным ядом по моей крови, горчит на самом кончике языка, сжимает мою шею большой и сильной ладонью, прижимается вплотную к трясущемуся телу и полностью подчиняет меня себе. И мне не хочется сопротивляться, потому что слабость, беззащитность, уязвимость, которые я в полной мере ощущаю именно сейчас, рядом с ним, в полушаге, полуслове, полувдохе от его безграничной власти — лучшее, что мне когда-либо приходилось испытывать.
— Таскать работу домой — очень дурная привычка, Кирилл, — моё замечание завершается коротким звуковым сигналом приехавшего к нам лифта, и Зайцев грубо хватает меня за локоть и заталкивает внутрь кабины, прижимает спиной к зеркалу, нависает сверху, уже не пытаясь контролировать себя.
Я смеюсь. Тихо, коротко, потому что на что-то большее уже не хватает дыхания. Внутри не пожар, не проснувшийся вулкан, а самый настоящий ядерный взрыв, последствия которого мне наверняка придётся расхлёбывать ещё десять невыносимо мучительных лет. И я готова заплатить эту цену.
Его трясёт даже сильнее, чем меня, и кажется, что лифт под нами вот-вот рухнет вниз, не выдержав перепада напряжения, расплавившись от высокой температуры, треснув пополам от той силы, с которой он упирается в него ладонями.
— Чего ты, блять, добиваешься?! — он упирается своим лбом прямо в мой с гортанным рыком, и я впечатываюсь затылком в зеркало, и снова смеюсь, пока перед глазами мерцают чёрные точки, отлично дополняющие вечернее светопреставление.
Синий. Жёлтый. Зелёный. Красный. Чёрный.
Так не больно. Больно было каждый невыносимо длинный день, похожий на предыдущий, когда я просыпалась и засыпала с чётким осознанием того, что мне на самом деле незачем это делать. Когда тоска выедала меня изнутри постоянно, и хотелось орать от ужаса, потому что я точно знала, что это уже не пройдёт. Когда весь смысл моей жизни сводился только к хранимым на сердце ложным надеждам.
— А чего добиваешься ты? — шепчу прямо в его губы, почти касаюсь их, жадно вгоняю в себя ту ничтожную порцию горячего воздуха, пойманную от него и щедро возвращённую ему же. Это эйфория, экстаз, чистое блаженство, — видеть его тёмные, горящие адским пламенем глаза, чувствовать его тягучий, тёплый хвойный запах, слышать его хриплое, сбившееся дыхание так близко. — Ты можешь сколько угодно пускать пыль в глаза другим и врать самому себе, а я знаю, кто ты на самом деле. Зайцев Кирилл.
Он так стискивает зубы, что они громко клацают друг о друга, и тонкие губы искривляются в гримасе боли, которую ему приходится преодолевать, справляясь с собственным желанием убить меня прямо здесь, задушить теми самыми окаменевшими от напряжения руками, что медленно перебираются со стены на мои плечи.
Щёлкает лифт, напоминая о том, что мы приехали на нужный этаж, и эти глухие щелчки отсчитывают прикосновения его ледяных пальцев, поочерёдно ложащихся на мою кожу. Они смыкаются резко и крепко, хитростью выманивают из меня один короткий, приглушённый вскрик ожидаемой дикой боли ломающихся под его напором костей, и я ощущаю разочарование, когда он только рывком вышвыривает меня наружу, яростно встряхивает и заталкивает вглубь своей квартиры.
Всё стало бы намного проще, не сдерживай он себя. Теперь мы оба на режуще острой грани терпения, на пределе собственных возможностей оставаться людьми, в то время как сидящие внутри монстры всеми силами стремятся друг к другу, беспощадно прорывая и ломая наши тела.
Листы разлетаются по всему коридору, выскользнув из моих рук вместе с сумочкой и плащом, которые я неосознанно крепко сжимала, отчаянно держась хоть за что-то в эти последние, самые сложные пять минут. Потому что держаться за гипертрофированную гордость, за собственную детскую и женскую обиду, за ненависть к нему, как к главной своей слабости, больше не получалось.
Это конец, конец, конец всему, что было.
Это конец тебе, Маша.
Гладкая ткань его рубашки так и норовит выскользнуть из-под моих пальцев, и я стискиваю рукава до треска, пытаюсь вонзить ногти ему в руку прямо сквозь них, цепляюсь за него, в него, в свои раздирающе противоречивые чувства к нему, когда среди барабанной дроби зашкаливающего пульса в моей голове стучит набатом «ненавижу, ненавижу, ненавижу», а на языке привкусом спелой вишни разливается «только не отпускай меня».
И он не отпускает. Обхватывает руками так жестко, что ноют сдавленные горячими ладонями рёбра, и еле получается дышать, и вместо правильного, разумного, должного возмущённого крика я бесстыдно стону, злобно шиплю, извиваюсь как сумасшедшая, вовсе не желая вырваться, а лишь плотнее вжимаясь своим телом в его, пока он поднимает меня над полом и несёт куда-то.
Дверь в ванную открывается пинком, с диким грохотом врезается в стену и, отскакивая от неё, бьёт ему в плечо. А мне хочется, чтобы он испытал настоящую боль, много-много убивающей, разрывающей, уничтожающей разум и душу боли, но всё, что мне под силу, это лишь бестолково молотить по нему кулаками и дико царапать чёртову рубашку, надеясь когда-нибудь прорвать её насквозь и добраться до влекущей загорелой кожи.
Подсветка над раковиной загорается автоматически, реагируя на наши движения, и яркий свет действует на меня, как влепленная наотмашь пощёчина, которая на мгновение приводит в чувства и возвращает в отвратительную реальность, где я позволяю ему слишком многое из того, что обещала себе никогда не допускать.
И единственный выход, который мне удаётся найти — просто зажмурить глаза, чтобы ничего больше не видеть.
Только чувствовать.
— Не смей меня трогать! — еле шевелю губами онемевшими, распухшими от прилившей к ним крови, заждавшимися его, и нервно бегающим по ним языком, поэтому получается тихо и совсем с несоответствующей смыслу интонацией. Подначивающей, провоцирующей, умоляющей.
Трогай меня.
Он начинает заталкивать меня в душевую, ставит на ноги, отлепляет от себя грубо и злобно, и последним усилием мне удаётся дотянуться до него и вгрызться зубами куда-то около ключицы. Лишь бы ощутить вкус его крови напоследок, глотнуть горячего солёного яда, перебить хоть чем-нибудь воспоминание десятилетней давности, сводящее с ума и не позволяющее закончиться одной-единственной ночи, которую я проклята проживать снова и снова, от заката до рассвета.