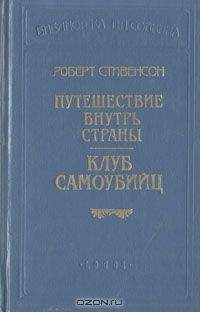«Посмотрите-ка на этого бедного нерешительного ребенка, — думала Аврора, — я знаю, что ей хотелось бы нацепить и желтых и розовых цветов на свои золотистые волосы. Неужели ты не знаешь, глупенькая Люси, что твоя красота такого рода, который не требует украшения? Несколько жемчужин, или незабудок, или венок из водяных лилий сделали бы тебя похожею на сильфиду; а, верно, тебе хочется нарядиться в желтый атлас и красные цветы».
От модистки поехали они к мистеру Гёнстеру на Беркелейский сквер и в его известном заведении мистрисс Александр заказала индеек и окороков, искусно приготовленных, и другие предметы высокого поварского искусства, в котором профессор Беркелейского сквера не имеет соперников.
Оттуда мистрисс Александр отправилась купить часы для одного из своих сыновей, только что вышедшего из Итона.
Аврора с утомлением лежала на подушках кареты, пока мистрисс Александр и Люси были у часового мастера. Надо заметить, что хотя к мисс Флойд отчасти возвратилась прежняя веселость характера, но иногда какой-то мрачный оттенок разливался по ее физиономии, когда она оставалась одна на несколько минут; это мрачное, задумчивое выражение было совершенно чуждо ее лицу. Эта тень упала на ее красоту теперь, когда она задумчиво глядела из открытого окна на проходящих. Мистрисс Александр Флойд долго выбирала свою покупку, и Аврора просидела с четверть часа, рассеянно смотря на проходящие фигуры в толпе, когда мужчина, торопливо проходивший мимо, увидал ее лицо в окне кареты и остановился как бы в сильном удивлении. Однако он пошел дальше; но прежде чем обогнул угол, опять остановился, простоял минуты три, почесывая затылок своей огромной рукою без перчатки, и потом медленно воротился к магазину часовщика, мистера Дента. Это был широкоплечий человек с белокурыми бакенбардами, в сюртуке и в пестром галстуке — курил огромную сигару, запах которой смешивался с весьма сильным запахом грога, недавно выпитого. Положение в обществе этого джентльмена обнаружилось гладкою головою пуделя, выглядывавшего из кармана его сюртука, и болонкою, которую он держал на руках. Это был последний человек между всеми находившимися на этой улице, который, по-видимому, мог бы говорить о чем-нибудь с мисс Авророй Флойд; однако он смело подошел к карете и, уткнувшись локтями в дверцу, кивнул ей головой с дружеской фамильярностью.
— Ну, как вы поживаете? — сказал он, даже не вынимая изо рта сигары.
После этого краткого приветствия он замолчал и медленно рассматривал своими карими большими глазами мисс Флойд и экипаж, в котором она сидела; он даже простер свою наблюдательность до того, что обратил особенное внимание на сафьяновую сумку, лежавшую на задней скамейке кареты, и спросил: «Нет ли чего-нибудь ценного в ридикюле старухи?»
Но Аврора не допустила его долго предаваться этому занятию; взглянув на него глазами, сверкавшими молнией женского бешенства, и с лицом, пылающим от негодования, она спросила его резким тоном, не нужно ли ему чего-нибудь сказать ей.
Многое ему надо было сообщить ей; но так как он сунул голову в окно кареты и заговорил шепотом, то слова его дошли до ушей одной Авроры. Когда он кончил шептать, он вынул из кармана грязную кожаную счетную книгу и коротенький, весь обгрызанный карандаш и написал две или три строчки на листке, который вырвал и подал Авроре.
— Вот адрес, — сказал он, — вы не забудете послать?
Аврора покачала головою и отвернулась от него — отвернулась с непреодолимым движением отвращения.
— Не хотите ли купить болонку, — сказал этот человек, подавая ей косматую собаку в окно кареты, — или пуделя, который будет держать кусок хлеба на носу, пока вы сосчитаете десять? Я уступлю вам дешево: за обеих собак пятнадцать фунтов.
— Нет!
В эту минуту мистрисс Александр вышла из магазина часового мастера и успела заметить широкие плечи этого человека, сердито отходившего от кареты.
— Он просил у тебя милостыню, Аврора? — спросила она, когда они поехали.
— Нет. Я когда-то купила у него собаку и он узнал меня.
— И он хотел, чтобы ты опять купила у него собаку сегодня?
— Да.
Мисс Флойд сидела угрюмо и безмолвно во все время, пока они возвращались домой, выглядывала из окна кареты и не удостаивала вниманием ни тетки, ни кузины. Я не знаю, из повиновения ли превосходству силы и жизненности в натуре Авроры, которое ставило ее выше ее ближних, или просто по врожденному духу раболепства, свойственному даже лучшим из нас, только мистрисс Александр и ее белокурая дочка всегда оказывали безмолвное уважение наследнице банкира и молчали, когда было приятно ей, или разговаривали по ее всемогущей воле. Я, право, думаю, что глаза Авроры пугали всех ее родственниц более, чем тысячи Арчибальда Мартина Флойда, и что если бы она мела улицы в лохмотьях или просила милостыню, люди все-таки боялись бы ее, уступали бы ей и удерживали бы свое дыхание, когда она была сердита.
Деревья в длинной аллее Фельденского поместья были увешаны цветными фонариками, чтобы светить гостям, приехавшим праздновать день рождения Авроры. Длинный ряд окон в нижнем этаже горел огнями; оркестр гремел, заглушая беспрерывный стук экипажей и беспрестанное повторение имен гостей; через длинную амфиладу комнат сверкал фонтан сотнями оттенков при огне между темной зеленью оранжерей. В обширной передней красовались тропические растения; гирлянды цветов висели на прозрачных портьерах в дверях. Свет и блеск были повсюду, и среди всего этого и великолепнее всего, в мрачном величии красоты своей, Аврора Флойд, с пунцовыми цветами на голове и в белом платье, стояла возле своего отца.
Между гостями, приехавшими позже всех на бал мистера Флойда, находились два офицера из Виндзора, приехавшие в фаэтоне. Старший, правивший экипажем, был очень недоволен и несносен дорогой.
— Если бы и имел хоть малейшее понятие о расстоянии, Мольдон, — сказал он, — я не согласился бы терзать моих лошадей для такого пошлого общества.
— Это не пошлое общество, — с пылкостью отвечал молодой человек. — Арчибальд Флойд — отличный человек, а его дочь…
— Разумеется, божество, с пятьюдесятью тысячами приданого, которое, без сомнения, все будет укреплено за нею, если ей позволят выйти за такого нищего негодяя, каков Фрэнсис Люис Мольдон, гусарский офицер в службе ее величества. Я, впрочем, не намерен вам мешать, мой милый. Отправляйтесь и побеждайте и я благословлю ваши добродетельные усилия. Я представляю себе юную шотландку — с рыжими волосами (разумеется, вы назовете их каштановыми), с огромными ногами и в веснушках!
— Аврора Флойд с рыжими волосами и в веснушках!
Молодой офицер громко расхохотался.
— Вы увидите ее через четверть часа, Бёльстрод, — сказал он.
Тольбот Бёльстрод, гусарский капитан, согласился отвезти своего товарища из Виндзора в Бекингэм и нарядиться в мундир для того, чтобы украсить праздник в Фельдене, отчасти потому, что, дожив до тридцати двух лет, он испытал все сильные ощущения и удовольствия в жизни; и хотя имел очень хорошее состояние, но был так утомлен и собою и светом, что равнодушно позволял своим друзьям и товарищам управлять собою. Он был старший сын богатого корнваллийского баронета, предок которого получил свой титул прямо из рук шотландского короля Иакова, когда баронетство впервые вошло в моду; этот же самый счастливый предок был близкий родственник благородного несчастного и оскорбленного джентльмена по имени Уальтера Рали, с которым тот же самый шотландский король Иаков обошелся не совсем хорошо. А из всех родов гордости, когда-либо одушевлявших человечество, гордость самая сильная принадлежит корнваллийцам; а фамилия Бёльстрод была самая гордая во всем Корнваллисе. Тольбот был истый сын этого надменного дома; с раннего младенчества он был самым гордым из всех людей на свете.
Эта гордость была спасительной силою в его удачной карьере. Другие люди могли бы споткнуться на этом гладком пути, который богатство и знатность сделали столь приятным; но не Тольбот Бёльстрод. Пороки и сумасбродство в Бёльстроде оставили бы пятно на до сих пор незапятнанном гербе, которого не изгладили бы ни время, ни слезы. Эта гордость происхождения, совершенно не относившаяся к гордости богатства или знатности, имела благородную и рыцарскую сторону, и Тольбот Бёльстрод был любим многими выскочками, которых оскорбили бы более низкие люди. В обыкновенных жизненных делах он был так смирен, как женщина или дитя; только когда честь была задета, спящий дракон — гордость, оберегавший золотые яблоки его юности, чистоту, честность и правдивость, просыпался и вызывал врага.
Тридцати двух лет он был еще холост, не потому, чтобы он никогда не любил, но потому, что никогда не встречал женщины, которой безукоризненная чистота души позволяла бы в его глазах сделаться матерью благородного рода и воспитывать сыновей, которые сделали бы честь имени Бёльстрод. Его выбор отыскивал в женщинах более чем обыкновенные женские добродетели; он требовал тех великих и царственных качеств, которые реже всего встречаются в женщине. Безбоязненную правдивость, чувство чести, столь же сильное, как и его собственное, благородство намерений, отсутствие эгоизма, душу, незапятнанную мелочными низостями ежедневной жизни — все это он искал в любимом существе; и при первом трепете волнения, которое возбуждала в нем пара прелестных глаз, он начинал разбирать владетельницу их и отыскивать пятнышки на блестящей одежде ее девственности.
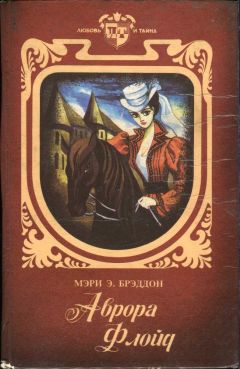

![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)