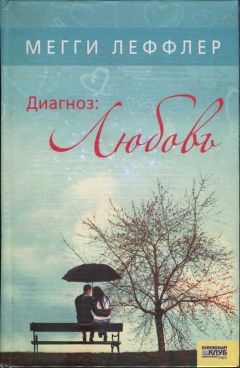— Признаю нулевую гипотезу? — повторила я. В его исполнении это прозвучало как обвинение в атеизме, хотя сам факт, что я не считаю Библию истиной в последней инстанции, — это ведь не доказательство того, что я не верю в Бога.
— Статистический анализ — это философия случайностей, — продолжил Мэттью, поднимаясь со своего места и подходя к доске, на которой я делала маркером пометки во время лекции. Мои глаза непроизвольно расширились от такой непосредственности. — В нашей жизни не бывает абсолютов. Даже достаточно достоверный статистический анализ не сообщит нам правды, его результат говорит лишь о том, что с определенной степенью вероятности правда будет находиться где-то между этим местом, — сказал Мэттью, правой рукой дотрагиваясь до моего плеча, — и вот этим. — Левую руку он положил себе на грудь.
Я уставилась на упомянутое пространство между нами.
— Теперь, если позволите… — Мэттью вытащил маркер и начал писать на доске, комментируя свои пометки: — Нулевая гипотеза утверждает, что экспериментальное отношение между объектом X и объектом Y является результатом случайности, — именно это экспериментатор и пытается опровергнуть. Он стремится доказать, что это больше чем случайность, он хочет с помощью статистики определить шанс подобных отношений. — Мэттью подчеркнул последнее слово. — В результате экспериментатор либо отказывается от нулевой гипотезы, либо опровергает ее, но никто и никогда с ней не соглашается.
Мне внезапно стало интересно. Может, он имеет в виду нечто большее, чем тема лекции, а именно… нас?
— Эй, это же перманентный маркер, — раздался с первого ряда голос Мери Ворсингтон.
Мэттью лизнул палец и попытался стереть свое творчество с доски, но даже сейчас, месяц спустя, надпись все еще красуется на ней.
— Господи, я прошу прощения.
— Хирургия задолжала нам новую доску, — добавил кто-то из аудитории.
— Заметано, — с готовностью ответил Мэттью, кивнув слушателям.
Однако, несмотря на показную уверенность, он, вернувшись на свое место, скромно просидел весь остаток дискуссии и не пытался больше выступать с собственным мнением.
После занятия я поймала его в коридоре и спросила, о чем, черт побери, он пытался рассказывать у доски.
— Для тебя это, должно быть, действительно важно, раз ты не побоялся испортить нашу доску. — Я улыбалась, искренне надеясь, что он больше заинтересуется мной, нежели предложенной темой. Однако Мэттью остался серьезным, ответив так, словно мы обсуждали политическое шоу или атипичную пневмонию.
— В авторских методиках всегда существует одна и та же ошибка. Я имею в виду ту самую критическую ошибку, к которой люди уже привыкли, — ответил он. — Автор исследования берет одну контрольную группу и использует ее снова и снова для самых разных сопоставлений. Меня такой подход просто бесит. Результаты потом оглашаются, а ведь они полностью бессмысленны.
— Почему бессмысленны? — поинтересовалась я.
— Потому что нельзя случайным образом отобрать группу людей и решить, что данная выборка является репрезентативной в любом из возможных случаев. Все необычное отсекается контролем как неподходящее, остальное сравнивается с контрольной группой и на основании совпадения начинает считаться нормой. Таким образом, конечный результат всегда получается извращенным.
— Понятно, — ответила я, хотя на самом деле понимала лишь то, что у него густые ресницы, зеленые глаза и недюжинный темперамент.
— Как бы там ни было, нужно всегда иметь два независимых параметра и искать истину где-то между ними, — закончил Мэттью.
Внезапно на меня нахлынули непонятные чувства — надежда, отчаяние, головокружение, усталость? — и я поняла, что именно этого момента ждала так долго. Момента, который сведет двух разных людей вместе и станет для них знаковым. Мэттью и я — два абсолютно независимых параметра, и, вероятно, истина окажется где-то рядом.
Поэтому прямо там, в коридоре, я пригласила его на обед. В тот вечер, и в следующий, и весь последний месяц мы выкраивали время для того, чтобы немного побыть вместе.
Вспомнив о том памятном дне, я села в ванне и решила, что трубку все-таки стоит поднять, прежде чем звонящему надоест ждать меня. Однако я не успела, и через секунду выяснилось, что на другом конце провода был не Мэттью, а Бен. Голос брата заполнил всю квартиру, и я подумала, что в будущем придется снижать громкость автоответчика до минимума. Наверное, все соседи слышали сквозь стены истерические вопли моего брата-близнеца.
— Холли, это я! Ты не поверишь! Ты хоть новости смотрела? Нет, конечно нет. Ты никогда не смотришь новости. Убили дядю Алисии! Он приехал к нам, чтобы читать лекции в университете! И покупал чертову бутылку воды, когда его застрелили! А этим вечером мы собирались вместе поужинать в Лафорет! — Бен сделал ударение на названии четырехзвездочного ресторана. — Господи, я не могу поверить! Я просто не могу поверить! — кричал он. Затем, чуть тише, добавил: — Позвони мне. Как только получишь это сообщение.
Я не могла пошевелиться. Не могла заставить себя подойти к телефону. Какое отношение ко мне имеет дядя Алисии? Я его даже не знала, как и не знала мужчину из 305-й палаты. Меня, кстати, не пригласили в Лафорет. Я ничем не могу помочь. Я могу только обвинять своих пациентов в том, что они что-то там чувствуют. Большего я не могу, а сейчас сил моих хватит лишь на то, чтобы закрыть глаза и погрузиться в теплую воду.
Снаружи, на Саус-Айкен-авеню, выли сирены «скорой помощи», из проезжавших машин доносилось невнятное бум-бум-бум, орали кошки, кто-то выяснял отношения: «Де-е-е-вочка, лучше бы тебе не говорить того, что ты сказала!» С автобусной остановки неслись автоматические объявления маршрута, который оставался все тем же: «Даунтаун!»
Единственная возможность отрешиться от этого шума — это представить, что я не здесь, а где-то в другом месте. Честно говоря, больше всего мне сейчас хотелось оказаться в маминой кухне.
Не открывая глаз, я воззвала к своему воображению. Вот мама, она стоит на скамейке и поливает лианы, плети которых свисают почти до пола. А я сижу за столом, потягиваю лимонад и изо всех сил переживаю по поводу выпускных экзаменов. Мне двенадцать лет, и первый год в колледже представляется мне концом света.
— А что, если меня не возьмут в медицинскую школу? — спрашиваю я.
— Поверь, это далеко не трагедия, — отвечает мама, и ее голос звучит неестественно, поскольку в этот момент она передвигает свой табурет, снова становится на него и, держа кружку с водой, пытается дотянуться до особенно высокого горшка.
— Но это же для тебя, — говорю я, — для тебя было важнее всего!
— Я человек предвзятый, — замечает мама. — Для меня был только один путь достичь счастья, хотя у каждого человека есть выбор. Перед тобой открыты все пути, и ты можешь заняться чем угодно, если только захочешь.
— Ты думаешь, что я не поступлю, — я скорее утверждаю, чем спрашиваю.
— Холли, я понятия не имею. Я просто говорю тебе, что в жизни есть не только медицина. Именно это я и пыталась тебе сказать. Хочешь — верь, хочешь — нет, но я тоже могу ошибаться.
Я обдумываю ее слова, хмурясь и наматывая волосы на палец, однако в конце концов улыбаюсь.
— Нет, — мой голос звучит застенчиво. — Чтобы ты — и ошиблась? Так не бывает.
— Я говорю, что могу. — Мама улыбается и проходит мимо меня, направляясь к раковине. — Открывай! — приказывает она, поднося к моим губам кружку, из которой поливала цветы, и делает вид, что хочет напоить меня.
Я отвожу кружку от лица и, злясь на себя, начинаю сопеть, А спустя секунду мы с мамой смеемся.
Ох, как же мы смеялись! Я помню, что у мамы это получалось как-то по-особенному. И вообще, когда мы с ней плакали — мы плакали, а вот когда смеялись — мы делали это от души, бездумно и почти истерично, до тех пор, пока не ослабевали от смеха и едва держались на ногах. В итоге та из нас, что сдавалась первой, сгибалась пополам и, дрожа от смеха, начинала умолять: «Хватит, а то я не ручаюсь за сухость трусов!» Это было весело. Нам действительно было весело!
Я начала хихикать, но, открыв глаза, замолчала, обнаружив, что вернулась в реальность и все еще сижу в ванне.
Мама, ты говорила, что в жизни есть не только медицина, но ты никогда не объясняла, чем на самом деле эта медицина является. Ты никогда не упоминала о постоянной нагрузке, о необходимости принятия решений и совещании с другими, когда на самом деле ты не способен никого вылечить. И конечно, я тут же начинаю думать о других вещах, которые мама скрыла от меня, о секретах вроде Саймона Берга. Неужели ты разочаровалась в семейной жизни и материнстве точно так же, как я разочаровалась в медицине? Ты поэтому уехала? Тогда почему ты вернулась? И почему я не брошу это занятие?