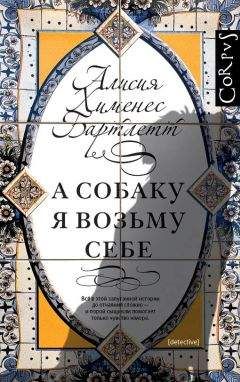— А… а… а… — обиженно кричит Ниночка.
А он уже вскочил в экипаж, и лошади мчатся. Напряженно и тревожно глядит ему вслед угрюмый старик.
Они возвращаются, когда вечереет и на террасе подан чай. С экспансивными жестами бонна рассказывает про этого Schönen Herrn, про свой испуг. Лицо Мани цепенеет.
— Кто же был dieser schöne Herr [58]? — усмехается Надежда Петровна.
— Наш сосед Нелидов, — отвечает Штейнбах.
Старый дядя не спускает глаз с лица Мани. Он силится что-то понять.
А Нелидов мечется в своем парке, прячась от людей.
Темный вихрь воспоминаний поднялся в его душе. О, с какой страшной силой взмахнул он своими черными крыльями! И все потускнело и поникло под его дыханием: солнце, жизнь, его бедные радости, его выстраданный покой.
Он знал, что она вернулась, что она неподалеку. Но она уже жена другого. Жена врага. И не надо им встречаться. Он давно так решил, еще когда услыхал об этой свадьбе. И тогда он подумал: «Она когда-нибудь вернется». И тогда еще испугался собственного страха перед возможностью встречи.
Хрустя пальцами, то останавливаясь с подавленным стоном, то снова кружа по глухим аллеям, Нелидов ищет осколки своего маленького счастья, добытого таким упорством, трудом и отчаянием и разбившегося внезапно, как хрупкая ваза от неосторожного толчка.
Девочка, маленькая девочка на пыльной дороге. И только. Но все погибло: строй налаженной жизни и дорогой ценой купленный мир. На губах еще остался запах этого нежного личика, прикосновение этих длинных ресниц. Его ресниц. Аромат этих гордых маленьких губ чувствует он на устах. Ее дитя. Его дитя. Какие тут могут быть сомнения? Его сын, наследник его имени, не похож на него ни одной чертой. Он весь в мать, жучок, с огромными темными глазами. А эта — Нелидова. Нет, Галицкая с точеными чертами его матери. Где-то там, в шкафу спрятан старый альбом Анны Львовны, спасенный ею в день пожара. И если отыскать пожелтевшую карточку Нелидова, где он снят пятилетним ребенком, на него взглянет это надменное личико белокурой девочки, которую его лошадь чуть не убила в это утро.
И вдруг исчезает действительность. Вихрь смел из души, замученной раскаянием, все, чем жил он вчера. Он видит пред собой письмо Сони. Видит себя на вокзале в Венеции. Разве не кинулся он туда в безумном порыве любви и жалости, чтоб все предать забвению, чтобы прижать к груди эту девушку, мать его ребенка? Ах, зачем не отдался он до конца этому порыву? Разве не ее одну он любил? Разве не она первая, не она единственная нашла в его душе великий, редкий клад — Нежность? И разве не от этой нежности задрожало его покоренное сердце в ту темную июльскую ночь, в беседке, когда он пришел к ней на свидание в Лысогорский парк?
Все забыть. Все простить. Нет! Этого он не смог бы. Прекрасный порыв его угас бы скоро. И опять между ними встала бы черная фигура, которую он встретил на дебаркадере в Венеции, как зловещий символ. Он знает себя. Нельзя забыть прошлое любимой женщины.
Ах, если б только один миг он мог украсть у судьбы в тот несчастный день! Один миг встречи. Один миг радости. Если б он мог взглянуть тогда в больное милое лицо, услыхать крик ее, с которым она кинулась бы ему на грудь. Ведь она-то простила бы. Разве любящая женщина помнит оскорбление? О, если б и он мог крикнуть ей в лицо слова, которые жгли его душу: «Прости. Я не виноват. Я не знал, что ты будешь матерью. Зачем ты обманула меня?»
Расчет Штейнбаха был верен. Нелидов попал в ловушку, расставленную врагом. Ослепленный ревностью и местью, он потерял последнюю возможность примирения — то, за чем мчался, как безумец, получив письмо Сони. Он потерял тогда свою дорогу к счастью.
«Полно! Полно! — внушает он себе. — Какое же это было бы счастье? Примирение на миг и озлобление часами. Ревность, упреки, страдания. Ненависть и недоверие. Разве возможно счастье без веры? А разве такой можно верить? Обманула раз, обманула бы опять. Все к лучшему. Надо взять себя в руки. Забыть прошлое. Осознать свои обязанности. Не изменять себе…»
— Николенька-а-а, — звучит издалека, как бы во сне, голос Кати. — Тебя управляющий жде-е-ет.
Неожиданно приезжает губернатор.
Годы не изменили его: все так же стройна его фигура, и так же изящны его движения. Переменился только чиновник особых поручений. Штейнбах знакомит их с Надеждой Петровной, «Тетушка моей жены», — говорит он и спешит распорядиться о завтраке. Надежда Петровна чувствует на себе удивленный и пронизывающий взгляд губернатора.
Но с огромным самообладанием она ведет светский разговор по-французски.
Входит Маня в парижском туалете. Губернатор оживляется. Обе женщины обмениваются быстрым многозначительным взглядом, пока губернатор говорит чиновнику особых поручений:
— Я знал баронессу еще подростком. Кто мог подумать?
За завтраком обе дамы любезно угощают гостей, звонко смеются, беспечно делятся воспоминаниями об истекшем сезоне в Париже.
Раскуривая сигару, Штейнбах спрашивает, что нового в крае?
— Неспокойно, Марк Александрович. Бы слышали, что нынче ночью убит стражник в Лисках? Нет? От вас я еду прямо туда. Чувствуется опять какое-то брожение.
— Может, личная вражда?
— Э, нет. Про случай с Нелидовым вам уже рассказали?
— Что тут общего? Нелидова давно ненавидят.
— Mon cher baron[59], не беретесь ли вы защищать террор? Это с вашим-то дворцом, с заводом? С вашими владениями?
— При чем тут террор? Я никогда не был его сторонником. Я принципиально отрицаю его. Но простая справедливость…
— Когда начинается пожар, кто может предвидеть, чем он кончится? Почему вы думаете, что вы больше других застрахованы от слепой злобы?
И губернатор вкрадчиво глядит в глаза хозяина, ища в них тени смущения. Но бледное лицо непроницаемо, как всегда.
— Присядем здесь, Марк Александрович. Не скрою от вас, я жаждал видеть вашу супругу, но приехал раньше, чем думал, и по делу неприятному… Я получил на вас донос.
Глаза их встречаются. Оба молчат одну секунду.
— Да, как это ни странно. Мое первое движение было скомкать и бросить в корзину это грязное письмо. Но его читали другие, мой секретарь…
— Откуда этот донос?
— Из Москвы. Вы знаете моего двоюродного брата жандармского полковника в Ч.? Он тоже получил сведения, и настолько странные…
На этот раз дрогнули веки Штейнбаха.
— Вы можете мне их сообщить?
— Марк Александрович, я буду с вами откровенным. Как друг вашего покойного отца и связанный с вами долголетними и прекрасными отношениями, столь обязанный вашей щедрости во всех моих начинаниях.
— Благодарю вас и очень ценю.
— Вот эта особа, гостящая у вас в данную минуту?
Штейнбах отодвигается невольно.
— Какая особа?
— Эта… тетушка вашей жены?
Они опять молча глядят друг другу в глаза.
— H-ну? — нервно срывается у Штейнбаха.
Губернатор придвигает свое лицо к его лицу и говорит шепотом:
— Она так поразительно похожа на женщину, которую мы искали шесть лет назад! Вот и вы не можете скрыть волнения.
— Помилуйте, Анатолий Сергеевич, как не волноваться? Я огорчен, возмущен. Я вернулся на родину с женой, пригласил ее любимую тетушку, ее крестную мать. Мы надеялись повеселиться, устроить грандиозный праздник в именины жены. И вдруг из-за какого-то доноса, из-за какого-то сходства нарушать покой больного человека? Позвольте спросить, чем я, наконец, виноват во всех бредовых идеях ваших подчиненных? Нет дела — вы сами его создаете. Нет революции — вы сами вызываете ее призрак.
— Марк Александрович!..
— Нет, это возмутительно! — перебивает Штейнбах, бегая перед скамьей с потухшей сигарой в руках, — наконец, я ничего не боюсь, ваше превосходительство! Можете делать обыски здесь, в Москве, где вам угодно, если это может успокоить вашего двоюродного брата. Будьте уверены, я не спрячусь.
Он бросает сигару. Губернатор встает.
— Марк Александрович, неужели мы будем ссориться? Я, как друг, приехал предупредить вас.
— Этого я не просил. Если я виноват, арестуйте меня, обыскивайте. Если нет, не нарушайте моего покоя. И не оскорбляйте моих гостей.
— Но постойте! Вы меня совсем в грязь втоптали. Должны же вы узнать, на каком основании…
Штейнбаху только этого и надо. Он садится опять. Оба раскуривают сигары. Губернатор рассказывает:
— Эта женщина изменила свой маршрут. Сестра ее вместо Прилук тайком выехала тоже в Москву, как будто лечиться, на самом деле — на свидание с нею. А здоровая сказалась больной. Все в усадьбе ждали, что эмигрантка приедет на родину. Ошиблись. Теперь стерегут поезда из Москвы. В такой момент, когда опять началось брожение в крае, а вы спросите, чего мне стоило его подавить, одно присутствие этой женщины…
— Теперь понимаю, У страха глаза велики. Бедная тетушка! Ее двойник сидит в Москве, а она виновата, что у нее черные глаза и румяные щеки.