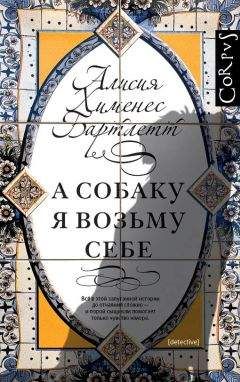— Теперь понимаю, У страха глаза велики. Бедная тетушка! Ее двойник сидит в Москве, а она виновата, что у нее черные глаза и румяные щеки.
— Ага! Вы, следовательно, знаете и ту?
— Кто ж ее не знает, Анатолий Сергеевич? Кто ею не интересовался? Особенно за границей? И, пожалуй, я не отрицаю: сходство есть, сходство типа. Но надо быть русским чиновником, чтоб из жизни делать такой кошмар.
— Mon cher, надеюсь, что между нами…
— Тетушка хотела уехать после именин жены. Теперь я ее удержу. Я не хочу подвергать ее неприятностям в дороге.
— Да, да, вы правы, это будет самое лучшее.
— Но, позвольте вам напомнить, вы говорили, что у вас есть донос на меня?
— Марк Александрович, я вас давно предупреждал! Ваши постоянные сношения с эмигрантами и денежная помощь…
— Только-то! Но ведь я же никогда не скрывал моей принадлежности к партии.
— Но я очень прошу вас, как старый друг вашего отца, быть осторожнее. Я не смогу предотвратить беды, когда получу прямое предписание из Петербурга. Вот, например, ваш персонал…
— Что такое?
Губернатор берет хозяина под руку и идет с ним к террасе, куда вернулись остальные.
— Ведь это уже тайна полишинеля, Марк Александрович, что у вас садовником служил анархист, сын генерал-майора, князь Сицкий, приговоренный к виселице за убийство трех городовых, пытавшихся его арестовать.
Штейнбах останавливается внезапно.
— Вы это знали, Марк Александрович?
— Да, ваше превосходительство, я это знал.
Губернатор смущен. Такого признания он не ожидал.
— H-ну, и что же?
— Он умер, как вам известно. Мы стоим у его могилы.
Губернатор невольно оглядывается.
— К чему бравировать? Вы могли бы и не выдавать себя. Но мне прямо указывают на некоторых лиц…
— А именно, вы не хотите сказать? Ваше дело. Настаивать я не смею. Но предупреждаю, что паспорта у них у всех в порядке. И арест кого-либо из них без причин и улик я буду считать за личное оскорбление себя. Да, себя, ваше превосходительство! И этого дела я так не оставлю.
Через полчаса губернатор уезжает. Когда коляска едет мимо больницы, Лика выбегает на крыльцо и, прикрыв глаза ладонью, зорко и странно глядит в лицо губернатора.
— Вы его видели? — спрашивает Надежда Петровна Лику в отдаленной аллее парка. — Вы хорошо запомнили его лицо?
— Да, да, да!
— Вот мой завет вам: кто сеет ветер, тот пожнет бурю. Вы не боитесь бури, Лика?
— Нет! — тихо и твердо отвечает та.
— Детей не пожалеете?
— У них отец.
— А молодости, Лика? Жизнь еще вся перед вами. Чем каяться потом, лучше не идти по этой дороге: круты эти ступени.
— Я не раскаюсь. А если мое сердце дрогнет, я буду думать о вас.
Надежда Петровна берет в руки голову Лики и крепко целует ее в лоб. Обе взволнованы.
— Чего не успела я, то сделаешь ты! — страстно говорит старуха, сверкая молодыми глазами.
Бледно и вдумчиво осунувшееся лицо Лики.
Где-то рядом хрустнула ветка. Они смолкают и встревоженно озираются Но все тихо кругом. Они молча идут назад И внезапно останавливаются. За елью стоит рабочий с длинной веревкой в руках.
— Что вы тут делаете? Кто вы? — сурово спрашивает Лика.
Он поднимает голову, и Надежда Петровна не может подавить безотчетного страха.
— Мы рабочие из Ржавца, — запинаясь и избегая взгляда Лики, отвечает он.
В ту же ночь тройка без факелов и фонарей, без бубенчиков и колокольчика спускается из Липовки в Яр. В ней сидят две женщины, одетые одинаково, в косыночках, без шляп, покрытые шалями, которые скрывают фигуру. В руках у них большие черные кожаные сумки. Мужчина в широкополой шляпе сидит на передней лавочке.
Ночь темна. Луны нет. Чуть белеет дорога.
— Неужели видите что-нибудь, Василий Петрович?
— Не беспокойтесь, Марк Александрович! Я дорогу запомнил. Каждую рытвину я знаю наизусть. А глаза у меня зорки, как у охотника.
Едут в глубоком молчании мимо спящих сел.
Наконец мелькнули огни маленькой станции, которую минуют все скорые поезда. Уже светает. Сейчас здесь пройдет пассажирский поезд Он тоже стоит всего две минуты.
Надежда Петровна берет в руки лицо Мани и целует ее.
— Увидимся, деточка?
— Скоро, скоро. Ждите меня! — страстно отвечает Маня.
«Где увидитесь? Когда?» — хочет крикнуть Штейнбах. Но слова его замирают в груди.
— Поезд идет, — говорит в пространство сонный жандарм и сладко зевает.
Штейнбах быстро идет до конца платформы и загибает за угол станции, прежде чем поезд скрылся из глаз. Никто не смотрит. Никому нет дела. Здесь его никто не знает.
О, благословенная глушь! Теперь скорей! Скорей!
На другую ночь перед сном Маня расчесывает волосы. Она слышит крадущиеся шаги под окном.
Она тушит огонь и открывает окно.
— Это вы, Остап? — с легкой тревогой спрашивает она.
Никого. Ей показалось. Жаль все-таки, что нет собак. Их не спускают с тех пор, как вернулся дядя. Их лай мешает ему спать.
Она уже легла. Душно. Не хочется запирать окна. В сущности, кого бояться? Марка любят и ценят здесь.
Она уже дремлет. Опять крадущиеся шаги…
Инстинктивно вся съежившись, Маня беззвучно сползает с постели. В руке зажат электрический фонарик. Кто-то остановился под окном. Вор? Не может быть…
Она крадется вдоль стены. Ей из темной комнаты видно, что кто-то стоит под окном, на дорожке.
Моментально она поднимает руку и нажимает на кнопку фонарика. На одно мгновение она видит вытянутую шею, белое пятно безбрового лица, белые глаза, полуоткрытый рот…
Шорох в кустах. Никого на дороге. Фонарь гаснет.
С невольной дрожью Маня запирает окно.
Где она видела это лицо? Недавно, на днях. А если это… Не может быть. Просто рабочий, их тут много, строят арки для иллюминации. А все-таки, слава Богу, что она уже далеко.
Маня ездит верхом по окрестностям, иногда с мужем, чаще одна.
У опушки Лихого Гая она сходит с лошади и идет по чуть заметной тропинке в тень корявых, угрюмых стволов.
Здесь. Кажется, это было здесь.
Гудят где-то пчелы. Должно быть, над гречихой. Вся розовая и смеющаяся в знойной ласке солнца раскинулась она там, на опушке леса, и шлет Мане как привет свои медовые ароматы. Воздух словно струится вдали, а здесь, в зеленом сумраке, незримо свершается великое таинство жизни. Страстно торопится использовать каждое мгновение тот, кому дано прожить так мало. Целый столб мошек вьется в золотом луче, пронизывающем лес.
«О, мудрые создания, не ведающие страха, жалости и раскаяния, творящие здесь чью-то высшую нерушимую волю и безропотно исчезающие в ночном мраке! И я хотела бы быть, как вы. О, вечное солнце! Облака, плывущие там, высоко, и уже тающие под моим взглядом, запах земли и сгнивших листьев, скрип старого дуба, пережившего поколения. Да разве я не вы? Разве не чувствуете вы, как близка вам я, — вернувшаяся к вам с обновленной душой?»
Как очарованная, стоит Маня в зеленом сумраке, глядя в золотую даль. Дремлет степь. Ни людей, ни звуков. Сладкий мир бродит неслышными стопами по молчаливым полям; по дорогам, бегущим вдаль и пропадающим из глаз; по кладбищам с безвестными могилами. И тихонько входит этот мир в мятежную душу. Слезы счастья жгут глаза. Забытая радость, что глянула на нее, звонко смеясь, из ветвей старой беседки, — она опять вернулась, и душа затрепетала от восторга.
«О, дивная Жизнь! Люблю тебя во всем твоем непрестанном творчестве, во всем твоем безудержном стремлении. Зачем ты привела меня сюда, где я страдала и любила? Пусть загадочны твои веления! Я безропотно приму их и исполню твой закон — как этот цветок, как это поле, как эти облака вверху, как пчелы, гудящие рядом, как мошки, гибнущие с закатом. Пусть и я умру! Пусть уйду во мрак! Но ничто не отнимет у меня эту радость — слышать в себе все эти голоса, чувствовать в себе все эти соки, сливаться с птицами и мошками, с травой и камнями в одном гимне тебе, прекрасная Жизнь!»
Уже падают сумерки, когда Маня верхом возвращается с далекой прогулки, вся затихшая, вся завороженная молчанием и ширью степи.
Вдруг далеко впереди, на фоне гаснущего заката, она видит знакомый силуэт. Николенька…
Сердце дрогнуло и остановилось на миг. Потом забилось так бурно, с такой болью, что слезы выступили на глазах, закрывшихся невольно. Но когда она открыла их, силуэт уже исчез за деревьями балки.
«Это мне померещилось, — думает Маня. — И разве я хочу этой встречи? Зачем? Наши пути разошлись. Мы оба нашли свое счастье в другом. Мы чужие. Разве не оттолкнул он меня?»
Закат угас. Она пускает лошадь в галоп. Сейчас стемнеет. Марк будет волноваться. Ему вредны волнения.
«Милый Марк»…
«Мое сердце дрогнуло», — говорит она себе, в глубокой задумчивости подъезжая к чугунной решетке парка.