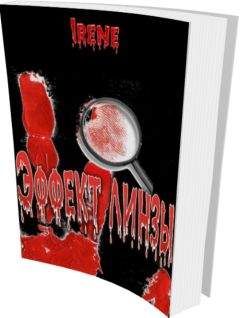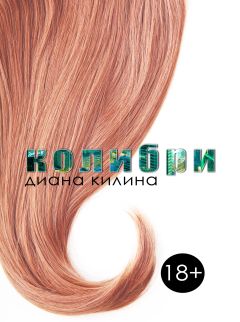Я мысленно представил эту картину. Да уж… с нашей криминальной обстановкой в городе самоубийство из-за несчастной любви и вправду хороший повод не заморачиваться насчет нового дела и повысить раскрываемость. Вовка молчал, только оглушительно зевая мне в трубку, но вдруг снова захрипел:
— Да, забыл! У меня только один вопрос по вашему Литвиненко остался. У него на теле было несколько синяков, при чем довольно серьезных, в районе груди и сзади, на спине… Но я думаю, парень молодой, вспыльчивый, друзья говорили — подраться любил. Так что не суть важно, наверное.
Я кивнул, забыв, что он меня не видит, и положил трубку, даже не попрощавшись.
— Что там?
— Все предсказуемо, Алла Ивановна. Это для нас — трагедия. Но у них полно других таких случаев. И наш, где все более-менее ясно, ничуть не важнее остальных.
Директриса устало покачала головой. Я закрыл глаза, пытаясь потушить волну боли и бессильного гнева на то, что вот так, ничем, закончилось происшествие, в котором отчасти виновен и я сам. Да, пусть я хреновый, неопытный психолог. Пусть я косил пары в универе и забивал на учебу. Пусть я пришел работать в школу не от хорошей жизни. Но, черт возьми, ведь мог увидеть, что Литвиненко грозит опасность! Наверное, не договорил с ним о чем-то, плохо наблюдал, мало работал… И вот теперь Лехи нет, а мне остается жить с этим и думать, что все нормально. Думать, что ничем не мог ему помочь. Думать, что это все меня не касается…
Алла Ивановна ушла, оставив меня наедине со своими мыслями. Я открыл форточку и снова проигнорировал запрет на курение в школе. Пожалуй, надо бросить. Чуть позже, когда жизнь станет немного спокойней.
Через несколько минут, пытаясь отогнать назойливое ощущение вины, я уселся за стол, чтобы продолжить разбор полетов. Горы бумажек с тестами постепенно превращались в ровные таблицы отчетов о результатах. На автопилоте взяв очередную пачку, я начал устало рассматривать животных, созданных детским воображением. Это один из моих любимых тестов: нужно нарисовать какую-то несуществующую тварь и дать ей имя. После этого, пользуясь ключом, можно довольно неплохо проанализировать внутренний мир человека — что его беспокоит, чего ему хочется, чего он боится… И вот теперь я видел двадцать семь «глюкотинозавров», «нотилапсов» и прочих невообразимых дикобразо-львов и рыбо-быков из 9-В. Я улыбнулся, разглядывая картинки, но момент спустя вздрогнул и почувствовал, как холодеет спина. Господи, да такого никогда в жизни не видел… Отбросив все другие рисунки, я положил перед собой чуть помятый листок и минут десять вглядывался в неровные, почти незаметные линии. А потом схватил телефон.
— Алло, Юль… Ты где?
— Как где? В учительской… у меня ж окно.
— Быстро иди сюда. Я в кабинете.
— Зачем?
— Быстро, говорю! — я бросил трубку, пытаясь уговорить себя, что я вижу просто безобидного выдуманного зверька, а не… О, нет. Только не это.
Юлия Витальевна появилась у меня на пороге буквально через минуту. Она с возмущенным видом демонстративно постучала по косяку, но я так увлекся рисунком, что не сразу ее заметил.
— Не поняла я что-то прикола, Кирилл…
— Смотри.
Видимо, мое волнение передавалось на расстоянии как вирус, и Юля, недоверчиво нахмурившись, быстро пересекла комнату. Мы склонились над картинкой. Животное было, мягко говоря, очень странным. Стороннему наблюдателю оно могло показаться даже забавным, но я-то понимал, что на самом деле здесь нарисовано… К левому нижнему углу листка жалось нечто львоподобное, с огромными ушами-локаторами, острыми когтями, почти вырезанными карандашом по бумаге, с длинными иголками вместо шерсти. Но самой ужасной мне казалась его морда…
— Это что?
Я перевернул листок и легонько постучал по имени автора.
— Маша Карасева. Что ты мне можешь о ней рассказать?
Юля подняла брови и заморгала, из-за чего на ее лице появилось глуповатое выражение.
— Обычная девочка, малозаметная. Учится средне. Часто пропускает занятия по болезни… В общем, девочка как девочка, — она тронула пальцем подбородок и вздохнула. — Ах, да! Сидит одна. С ней мало общаются в классе… почему-то дети ее не любят.
— А семья?
— Мама у нее только, кажется, — Юля пожала плечами. — Сестер и братьев нет, насколько я помню.
Я кивнул.
— А теперь смотри. Когти и иголки на шкуре животного — это ее защита. Не агрессия, видишь, они направлены вниз. Она защищается. Причем — от одноклассников, от других детей — не тех, кто стоит выше нее, иголок-то на спине нет. Она настолько сильно хочет от них отгородиться, что едва не продырявила бумагу, вырисовывая…
— Не замечала, чтоб ее особо травили, надо же… У нас вроде класс дружный.
— Однако она их боится хуже атомной войны. Потом — эти уши. Она слушает. И очень хочет слышать информацию о себе. Скорее всего, ее самооценка настолько низкая, что, например, одно обидное слово может подтолкнуть ее к депрессии. К такой, знаешь, настоящей, недетской депрессии… И хвост у зверька вниз направлен, по земле волочится. Вот так уныло она к себе и относится…
Юля закусила нижнюю губу и ткнула пальцем в рисунок:
— А морда?
— Да, тут самое интересное. Вот эти крестики вместо глаз — это смерть. Часто в японском аниме встречается, даже смайлик есть такой, по-моему. А кроме того — еще и круглый заштрихованный рот… Это животное еще кричит от боли, но, по сути, уже мертво. Ты видишь рисунок готового к самоубийству человека, Юля…
Я почувствовал, как она вздрогнула, и ее руки мгновенно покрылись гусиной кожей.
— Да ладно…
— Не «да ладно»! Веди ее ко мне.
Юля неподвижно стояла, склонившись над картинкой, и все хлопала и хлопала ресницами, будто надеясь, что она пропадет, или устрашающий лев вдруг станет милой птичкой.
— Это ж еще случай с Литвиненко…
— Юля, ты еще здесь?!
— Бегу, бегу… — она остановилась на пороге и ее лицо стало таким белым, что я уже пожалел о том, что рассказал о своих наблюдениях. — Кир, мне это… страшно теперь… Как с ней вообще разговаривать?
Я почесал затылок. Не тебе одной…
— Как обычно. Не вздумай ее ни о чем таком расспрашивать! Я попробую прозондировать почву, тогда посмотрим.
Через несколько минут передо мной сидела щуплая бледная девочка с длинными черными волосами, волна которых почти закрывала лицо, когда она начинала говорить. Нет, никаких эмо в нашей школе не было. Я, в принципе, не очень радовался бы появлению субкультур у нас, потому что у многих людей старой закалки они вызывают трепетный ужас и желание «сделать их нормальными», а это значит, что бороться с эмо, готами и прочими подобными детишками пришлось бы мне. Но иногда субкультуры помогают человеку чувствовать свое место, знать, что его понимают… Я внимательно осмотрел Машу, и ее одежда показалась мне немного странной — длинная, пышная кружевная юбка, свисающие вниз рукава кофты, ботинки с большим круглым носком старомодного вида. Интересно, что в тот момент я забыл даже о неуверенности в своих профессиональных силах — единственным моим чувством была саднящая, мучительная жалость к ней. Девочка сидела на самом краю стула, покорно сложив руки на коленях, и не решалась поднять на меня глаза, будто я собирался ее за что-то отчитывать.