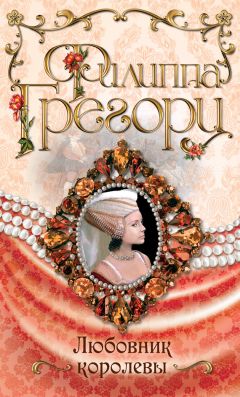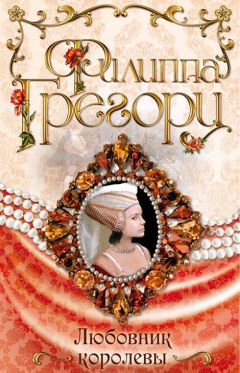Забота Саньке понравилась — его поместили в теплую комнату, выдали чистое исподнее, снабдили журналами, чтобы не скучал, покормили обедом с хорошим вином. Поздно вечером прибежал Жан.
— Успел побывать в типографии! — похвастался он. — Да из гранок сыскал лишь первую! Вот…
Узкий мятый бумажный лист содержал такие строки:
«Песня гласит: неверного извиняют, но никогда нескромного; и женщины не преминули примолвить, что песня говорит справедливо: но справедливо ли говорят оне сами? Вот что рассмотреть надобно.
Неверный не устоивает в своем обещании; ибо он клялся любить вечно. Первая обида. Неверный обманывает часто двух женщин вдруг. Вторая обида, но более простительная. Напоследок неверный оставляет часто женщину в недеятельности, или лишает ее некоторой части любовных выгод. Третья обида из всех несноснейшая…»
Как Саньке ни было скверно, однако он рассмеялся. Фривольность безымянного автора понравилась — ведь женщины желают любовных выгод, обретаемых в постели, не менее мужчин, только притворяются, будто к ним безразличны. Наконец хоть кто-то правду сказал!
— Какой живой слог! — сказал Жан. — Вот что надобно перенять. Слог, который при чтении не требует усилий. И выучиться вовремя вставлять простонародные выражения — вот как тут.
Он отнял у Саньки листок и указал на строчку: «ибо любовник нелепой простофили редко хвастать покушается».
— Что за журнал такой? — спросил Санька.
— «Лекарство от скуки и забот», выпускает господин Туманский. Мы все для него пишем. Но у меня вскорости будет свой журнал!
Санька понял, что напоролся на хвастуна, и решил это пресечь.
— Но вы же пишете оперы, которые вот-вот поставят у нас в театре, пишете трагедии, играете на скрипке. Еще и журнал впридачу? Не много ли?
— А иначе нельзя, — сказал Жан. — Коли хочешь добиться славы, нужно делать все! А я добьюсь! Оперы мои произведут фурор! И журнал также! А знаете, почему?
— Понятия не имею.
— Потому что я не бичую безымянные пороки!
Это было сказано с такой великолепной гордостью, что Санька даже растерялся. Самому ему и в голову бы не взошло бичевать пороки.
— То есть как?
— А так, что в журналах наших бичуют порок безликий — взять хотя бы скупость. Пишут: скупость-де смешна, скупец нелеп, да прибавляют басенку про придуманного чудака. Будет ли от того польза? Журналы у нас в государстве печатаются уже лет сорок — довольно времени, чтобы исправить нравы, а все напрасно! Знаете, сударь, почему?
Отродясь Санька не беспокоился об исправлении нравов в Российской империи. Его мир был величиной с театр — а дурные нравы есть необходимая принадлежность, или ты с этим смиряешься, или ищи себе другое место. Потому он в ответ на вопрос пожал плечами.
А Жан разволновался, стал ходить по комнатке, размахивая руками:
— Потому, что наши господа сочинители боялись писать о людях, в которых угнездились пороки! Вот ежели бы кто-то написал о скупости: сделалось нам известно, будто некий скупец до того дошел, что слуг кормить перестал, так что они на улице побираются и видеть их можно всякий день у ворот Гостиного двора, — так тут бы все признали известное в столице лицо, и оно бы устыдилось! Наши журналы ни в ком не вызывают стыда — вот в чем беда, сударь! А должны!
Тут оратор сшиб со стола подсвечник, но нагибаться за ним не стал.
— Мой журнал, который мы готовим, как раз и будет о столичных грешниках, которые сами себя узнают. Имен называть не станем — да оно и не надобно, публика догадается! Воображаете, сколько у моей «почты» будет подписчиков?
— Почты?
— Ну да, мы уже придумали название — «Кабалистическая почта». Ее будут бояться, как огня! Помните, был журнал «Адская почта»?
Санька кивнул, хотя не помнил.
— Журнал сей хоть и нападал на «Всякую всячину», однако был весьма умеренный — известных лиц не касался, разве что господ литераторов, ну да это — так, развлечение нашего круга, а не борьба с пороками. А знаете, чем он был хорош?
— Понятия не имею.
Журналы Саньке были мало интересны. Они время от времени проникали и в театр, и обнаруживались на столах в уборных береговой стражи, вперемешку с дырявыми чулками, банками румян, порванными подвязками, пуговицами, коробками пудры и прочей дребеденью. Попадались смешные или фривольные, читать которые в двадцать лет приятно, однако названий их Санька отродясь не знал — береговая стража довольно быстро раздирала их, пуская страницы на папильотки и заворачивание всяких мелочей.
— Так я объясню! — с азартом продолжал юноша, словно не замечая, что Санька в ней не нуждается. — В «Адской почте» была переписка двух бесов, Хромоногого с Кривым. Но бес — он смешлив и злоязычен, а этого для журнала мало. Нужен другой — тот, кто, как бес, сможет незримо проникать всюду, хоть в кабинет продажного судьи, хоть в спальню театральной девки, но при этом имеющий в себе и высокие материи! Я отыскал такое создание — отыскал в «Кабалистических письмах» маркиза д'Аржана. Это — сильф! В моем журнале писателями будут сильфы — ну, и ондины, вероятно, и гномы, и бес Астарот, как у маркиза. Только вот с именами загвоздка — думаю, давать ли им звучные французские, на манер Оромасиса, или те, что я им выдумал на русский лад.
Санька смотрел на восторженного Жана и думал: вот ведь городит человек ахинею, тоже выдумал заботу — как называть сильфов…
— Мне все более кажется, что лучше русские имена, — продолжал Жан, мало беспокоясь, слушает ли его Санька. — Вот, скажем, у д'Аржана ондина зовут Какука. Читатель прочтет это слово — и примется хохотать. А я полагаю, что хохотать нужно над пороками, а не над именем, и потому хочу назвать ондина Бореидом.
— Да, это исконно русское имя, — заметил Санька.
— Что? Да нет, конечно! Просто оно всякому читателю будет понятно — кто ж не знает Борея!
И точно — Борея знала даже малограмотная береговая стража, ибо он частенько являлся в балетах: злобный и свирепый греческий бог северного ветра, любимец балетмейстеров.
Санька слушал, как юноша расписывает будущий журнал с письмами философического и обличительного характера, а сам думал, как бы своротить гостя с этих высоких материй на более обыденные — такие, в которых простому фигуранту возможно было хоть что-то понять.
Ему на помощь пришел Никитин — влетел в комнату веселый и довольный, тут же принялся рассказывать новости.
— В театре суета неимоверная, — сказал он. — Однако полиция, сдается, не так глупа, как все считают. Кто-то подсказал ей, что ты, сударь, был в доме дансерки Платовой, и допрашивали ее очень сурово. Она, дура, решила с сыщиками кокетничать и жеманничать — так, я чай, из ее головы кокетство и жеманство повыбили надолго. Сам обер-полицмейстер кричать изволил.