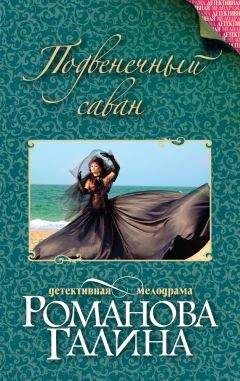Воскресный вечер, когда он вернулся к Маше, превратился у него в пытку. Она улыбалась, ласкалась, расспрашивала, как прошел воскресный обед. И даже в какой-то момент надула губы, решив, что будущая свекровь не одобрила выбора сына.
– Маша, милая, ну о чем ты говоришь? – шутливо возмутился он тогда, если вообще был способен шутить. – Мама тоже выходит замуж и сестрица. Так совпало. И решено в следующее воскресенье устроить общий сбор.
– Знакомство с родителями? – ахнула Маша и тут же принялась переворачивать гардеробные залежи, выбирая платье для такого важного мероприятия.
Он наблюдал за тем, как она без конца примеряет платья, демонстрирует ему, выходя в гостиную на высоких шпильках, и внутри у него все содрогалось от отвращения и ужаса.
Нет, в его душе не было отвращения к Маше. Было отвращение к той чудовищной истории, в которую она попала из-за него.
Ведь это случилось только из-за него, да! Из-за того, что он Филиченков! Из-за этого им поменяли место, когда они приехали в «Загородную Станицу». Из-за этого их поместили, накрыв им роскошный стол, в дальнем корпусе, на отшибе, где не слонялся праздный люд. И можно было пригласить профессиональных фотографов, сотворивших мерзость. Из-за этого его вызвал к себе хозяин «Станицы» и продержал у себя час, предаваясь воспоминаниям. Володю просто нужно было убрать оттуда, чтобы дать время сотворить такое с Машей.
В шампанском что-то было. Это он заподозрил еще во время воскресного обеда, когда Машу неожиданно с двух бокалов жутко развезло. Но тогда он подумал, что алкоголь контрафактный. Теперь же он твердо знал, что в шампанском было снотворное. Или еще какая-то дрянь, подавляющая волю. И пока он говорил с хозяином заведения, с его Машей делали все, что хотели. Ее – бесчувственную – не насиловали, нет. Ее унижали, ее прекрасное тело растаптывали, они превращали ее тело в грязь…
Это было мерзко, страшно, отвратительно. Его душили слезы, стоило вспомнить, как он поддерживал светский разговор, в то время когда с ней творили это.
Только он был во всем виноват, только он!
Володя повернулся, глянул на спящую девушку. Она была прекрасна. Нежна, чиста и прекрасна. Он не позволит никому осквернить их отношения! Он защитит ее от зла. Он сможет. И встанет на пути любого гада, даже если им окажется… его покойный отец.
Осторожно поднявшись, Володя, не включая света, ощупью прошел на кухню. Встал у окна, глянул во двор. Никого. Пустая детская площадка, безлюдная автостоянка, темным пятном выделялся сквер, где недавно погиб мужчина, сорвавшись в овраг. Кажется, он побежал за своей собакой. Что-то такое говорила Маша. Его лично это не затронуло. Чужая жизнь, чужая смерть. Было все равно…
На улице морозило, и воскресный мокрый снег никуда не делся. Он спекся плотной коркой, отвратительно хрустевшей под ногами.
Володя приоткрыл форточку, плотнее прильнул к окну. Звук чьих-то шагов вдруг послышался со стороны сквера. Точно, он не ошибся. От темного пятна, которым казался сквер на фоне припорошенной снегом земли, отделилось пятно поменьше. Оно колыхалось, двигалось и вскоре приобрело очертания человеческой фигуры, одетой во все черное. Черные штаны, черная куртка, черная шапка. Безликая черная человеческая тень. Что она делает в три часа ночи в их дворе? Почему идет со стороны сквера? И почему, черт побери, подходит к его машине?
Человек, за которым наблюдал Володя, остановился возле его машины. Порылся за пазухой, достал что-то и сунул под «дворник» на его ветровом стекле.
Господи!
Ему хотелось заорать, окликнуть, заругаться громко-громко, чтобы спугнуть мерзавца, и он даже открыл рот, но не смог. И не потому, что побоялся напугать спящую Машу. Ей ведь потом пришлось бы что-то объяснять и про человека, и про конверт…
У него ничего не вышло по другой причине. Слова, крик – все завязло где-то внутри, прилипло к вспухшей гортани, осело на ноющих гландах. Так, наверное, испускают дух, когда умирают?! Таким, наверное, сипом выходит то последнее слово, которое умирающий считает самым главным, самым важным для себя.
– Па-а-па-а… – еле протиснулось сквозь опухшее Володино горло, и тут же догнал вопрос: – Ты-ы-ы-ы?
Он на мгновение закрыл глаза, подышал, чтобы не свалиться замертво прямо под окном на Машиной кухне. Когда снова обрел способность видеть и соображать, человека на улице уже не было. Но он ему точно не привиделся! Он все еще слышал хрустящий звук его шагов! И чертов конверт торчал из-под «дворника»! И…
И если он сейчас не спустится на улицу и не уничтожит этот конверт, то тот может попасть в чужие руки и тогда беда. Тогда кто-то узнает о его страшной мерзкой тайне. И узнает Маша, что стала пешкой в чьей-то страшной, гадкой игре. И тогда…
Что будет с ней, если она узнает, Володя даже не мог себе представить. Ему все время мерещилась заполненная до краев ванна, в ней Маша с бледным лицом, с закрытыми глазами, и запястья ее аккуратно перерезаны, и с них в воду натекло так много крови, что вода стала бурого цвета. Такого темного непроницаемого бурого цвета, что не видно Машиного тела. Только голову и перерезанные в запястьях руки.
Ноги не слушались, когда он спускался вниз по лестнице, надев спортивные штаны и куртку прямо на голое тело. Выбежал из подъезда, так же бегом домчался до своей машины, выдернул конверт из-под «дворника», надорвал край, сунул туда руку и едва не застонал вслух.
Там снова нащупывались фотографии. Стопка глянцевых снимков, он знал, что на них. И записка. Снова была записка.
Володя вытащил ее. Встал так, чтобы свет от фонаря падал на бумагу, прыгающую в его дрожащих руках. Прочел.
«Если не покажешь это своей шлюхе, я пошлю все ей сам. Сделай, как я велю. И жди инструкций. Папа».
– Ууу-м-мм! – глухо простонал Володя, падая лицом на капот машины. – Господи! Да что же это такое…
Лавров задумчиво помешивал в маленькой кастрюльке овсяную кашу. Лера еще спала, когда он поднялся. Может, и не спала, а просто затихла, не желая выбираться из своей кельи. Может, обижалась.
Он вчера устроил ей скандал, когда она вернулась. Орал на нее, грозился выгнать, вытащил за шиворот из машины, даже не дав заглушить ее. Собственноручно вытащил ключ из замка зажигания и, подталкивая девушку кулаком в спину, погнал ее к подъезду. Странно, но она почти не огрызалась. Лишь один раз, когда споткнулась о порог его квартиры, глянула на него несчастными, блестящими от слез глазами и прошептала:
– Сволочь ты, Лавров!
Стащила с себя пальтишко и заперлась в комнате. И больше не вышла. Даже душ принимать не стала перед сном, а она всегда плескалась там по сорок минут. Ближе к полуночи он и правда почувствовал себя последней сволочью.