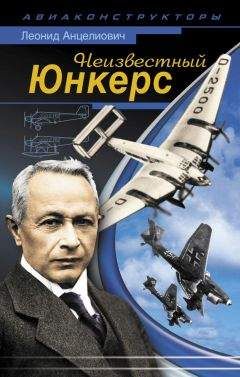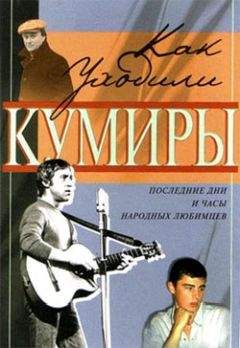Один из людей заглянул в леток, и, тихо пожужжав, отправился дальше, жуя восхитительную булку. Это было уже выше Кешкиных сил. Он кинулся к широко распахнутому оконцу, протянул длинную руку во влажную глубину, схватил первое попавшееся и побежал прочь. Хлебная матка зашлась в пронзительном визге, заполнив им свой улей и его окрестности.
За штабелем смолистых шпал Кешка бережно вытащил из-за пазухи буханку – круглую, мягкую, кисловато пахнущую. Треснувшая поджаристая корочка топорщилась с одного края веселым разинутым ртом. Кешка отломил горбушку, медленно втянул в себя удушающий запах черного хлеба, откусил большой кусок и, чавкая, принялся старательно его жевать.
* * *
День прошел незаметно. Проснувшись под вечер, Кешка снова пошел на вокзал и долго следил за снующими взад-вперед людьми, пытаясь разобрать, что они делают и в чем состоит их цель. Ничего не понял.
Потом захотел пить, и тут же увидел собаку – немолодую тощую суку, по виду которой он понял, что она тоже озабочена поисками воды. Сука куда-то трусила неровной рысцой, далеко высунув вялый бледный язык, и, покосившись на Кешку через плечо, позволила ему присоединиться к ней. Ее расчесанная спина сочилась сукровицей, и кажется, на ней уже копошились личинки мух, но здесь Кешка ничем не мог ей помочь.
Они дошли до какой-то торчащей из стенки трубы, из которой тоненькой струйкой текла вода. Кешка подождал, пока напьется сука, потом напился сам. Вода сильно отдавала ржавчиной, но была холодной и довольно чистой.
Ближе к вечеру он рискнул присоединиться к копошащейся толпе. Ведь, если приехал в город, надо учиться жить среди людей, так? Сразу же непривычное, неприятное чувство охватило его: совсем близко, и спереди, и сзади, и со всех сторон кто-то шел. Все они по-разному, но сильно пахли и как бы не видели Кешку. Потом стало душно, тоскливо до дурноты.
Кешка спрыгнул на пути и отправился к своему штабелю, думая о спрятанной под ним половине буханки.
Половину буханки, выкопанную из-под штабеля, доедала облезлая сука. Кешка опустился рядом с ней и позволил доесть последние крошки. Он не очень расстроился, все было в общем-то правильно – ведь она позволила ему попить своей воды…
Он посидел немного рядом с собакой, которая все время искоса поглядывала на него, но, кажется, ничего не опасалась. У нее недавно были щенки. Живот, на котором болтались длинные серые соски, был так худ, что казался прилипшим к хребту. С серой морды вопросительно глядели слезящиеся безнадежные глаза. Кешке нечего было ей ответить. Он сам был слишком чужим тут.
Сука ушла. Мальчик свернулся калачиком под штабелем, но сон не шел. Вокзал не нравился Кешке, хотелось уйти отсюда. Но куда? К тому же снова надо было думать о еде…
* * *
– Бедный пацан! Надо думать, с самого начала ему особенно несладко пришлось, – Ленка затянулась сигареткой, украдкой глянула на часы. Видимо, прикидывала, где сейчас находится Демократ. – Как он тогда же не оказался в детприемнике – мне лично непонятно.
– Звериная осторожность, вывезенная с Беломорья. Его тогдашнего надо сравнивать не с городскими детьми-беспризорниками, а с бродячими кошками, собаками, подвальными крысами. Легко ли человеку поймать дикого городского кота? Вот именно. Для этого самому надо быть… ну, я не знаю, Шариковым, что ли… Шариковых – государственных служащих по Кешкину душу не нашлось.
Разумеется, его ловили, когда он воровством добывал еду. Однажды у хлебного ларька избили чуть ли не до полусмерти. Потом он отлеживался в берлоге какого-то околовокзального, гуманистически настроенного бомжа, который представился ему как дядя Блин. Этот Блин как-то научил Кешку самым основам городской бездомной жизни, а потом – внезапно помер прямо у мальчика на руках, выпив вместо водки какого-то суррогата. В те годы, как ты помнишь, его было едва ли не больше, чем настоящего спиртного.
Кешка каким-то диковинным, языческим образом захоронил дядю Блина в том же подвале, в котором они жили. Думаю, что твои собратья-оперативники, обнаружив впоследствии труп и встретившись с Кешкиными представлениями о похоронных обрядах, немало поломали себе голову: что бы это значило? Не действовала ли здесь какая-то секта?
После смерти наставника Кешка решительно покинул окрестности Московского вокзала и переселился в исторический центр города…
Глава 9. Кошачье счастье
(Вадим, 1996 год)
С некоторых пор Вадим терпеть не мог слово «рефлексия». Оно представлялось ему похожим на огромного рака с разноразмерными клешнями, которыми тот стремится грубо отхватить что-то мяконькое, тонкое, беззащитное. От самой ассоциации тоже ощутимо мутило, а самым противным казались даже не опасные клешни, а маленькие выпученные глаза на стебельках, которые гибко вращались и целлулоидно поблескивали в полутьме.
За окном второй час подряд с унылой безнадежностью падают мокрые крупные хлопья ноябрьского снега. Если смотреть из окна наверх, то на фоне неба хлопья кажутся черными. Как будто бы там, наверху, сгорело что-то очень большое, и теперь вниз хлопьями сыплется влажная сажа. Открыв форточку, можно послушать, как снег, падая, тихо шуршит. Вместе с шуршанием в форточку вползает тяжелый холодный воздух и почему-то запах огурцов. Полосатый Скотт встает на подоконнике на задние лапы, нюхает огурцовый снег и царапает когтями оконную раму.
Сквозь танец снежинок мерещится гибкая танцующая фигурка. Об этом думать нельзя.
За стеклом книжных полок тускло проблескивают корешки книг, пушистый плед свернулся на кресле-качалке, словно еще одна, клетчатая, кошка, над серебряным подстаканником благородно чернеет крепчайшая заварка и поднимается едва заметный дымок.
Главное, это убедить себя , что во всем этом есть какой-то смысл. Пусть он не слишком очевиден сейчас, в данную конкретную минуту, но вообще-то он, безусловно, имеется. И будет отыскан, возвращен, помещен в отведенное место, снабжен соответствующей биркой…
Мужчины не воют и не бьются в истерике. Тем более, что никакого повода для истерики на горизонте не наблюдается. Серый треугольный нос Скотта энергично двигается из стороны в сторону, мощные полупрозрачные когти шелушат старую краску. В осеннем снеге он предчувствует мартовскую круговерть. Зима для него – всего лишь прелюдия к весенним безумствам. Ежедневный двадцатичасовой сон на пуфике в прихожей – накопление сил перед решающим броском, где каждый день решается гамлетовский вопрос, и гибель отделена от победы всего лишь минутами спрессованного в вечность экстаза. Если Скотту опять повезет, и он переживет грядущую через полгода весну, то, истерзанный, но торжествующий, он снова приползет к знакомым дверям, залижет раны, сожрет четыре банки «вискаса» и гордо возляжет на свой пуфик, в клочья изодранный когтями. Счастливец!