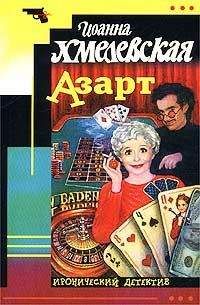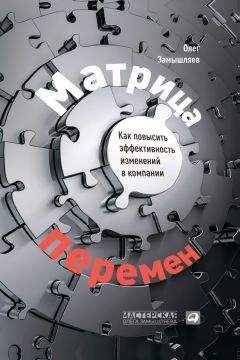Напротив сидел Бертрам, пристроивший свой лэптоп на краю стола. Он изучал сводную ведомость.
— Простите, что помешала, но дело срочное, — начала я.
Оуэн отнял ладонь от глаз и нахмурился.
— Я не шучу.
Я сняла с вешалки его пиджак и держала в руках.
— Ладно, Гил, поговорим позже, — бросил он, спустив ноги на пол. — Мне нужно идти. Держи меня в курсе. — Он повесил трубку и обратился ко мне: — Что там еще, Кик?
— Вы оба должны пойти со мной в малый конференц-зал, — объявила я, с трудом держа себя в руках. — Не поверите, что сейчас произошло!
— Что именно?
— Помните тот вечер, когда вы пришли ко мне домой? Вечер пресс-конференции Тины? Увидели у меня книгу о драгоценностях царской короны, и я рассказала вам историю сэра Крамнера? Он всегда говорил, что в один прекрасный день кто-то принесет в «Баллантайн» пропавшие царские сокровища.
Я разгладила лацканы пиджака.
— Смутно.
— Так вот, он только что появился.
— Кто появился? — вмешался Бертрам.
— Русский царь.
Оба сразу же вернулись к своим делам.
— Да выслушайте меня! Разве я ошиблась насчет леди Мелоди? Разве не дала вам тогда хороший совет? И вот сейчас говорю: в малом конференц-зале сидит человек с полудюжиной металлических ящиков, которые, по его утверждению, битком набиты драгоценностями Романовых, принадлежавших некогда его прапрабабке, вдовствующей императрице. Ну что, останетесь здесь, как два болвана, или пойдете со мной и посмотрите, что он привез?
— Она права, — кивнул Бертрам и поднялся, поправляя галстук. — Во всяком случае, вреда не будет. Боже упаси, чтобы меня вдруг назвали болваном.
— И то верно.
Стоило нам показаться в дверях, как собаки насторожились и угрожающе зарычали, ожидая команды.
Как только я представила мужчин друг другу и мистер Раш повторил свой рассказ, я поняла, насколько абсурдно он звучит. Оуэн то и дело переводил взгляд с него на меня, словно мы говорили на суахили.
Бертрам молча кивал седой головой, как психиатр, делавший вид, будто слушает пациента, а на самом деле считавший, сколько минут осталось до конца визита.
— Минуту, сэр. Прошу меня простить, — обронил наконец Оуэн и, взяв меня за локоть, вывел в свой кабинет.
— Это что, шутка такая?
— Нет, — невольно рассмеялась я, хотя была озадачена не меньше его. — Я совершенно серьезна. То есть непонятно, говорит ли он правду, но сэр Крамнер свято верил, что так будет, и ты только сейчас выслушал мистера Раша. На свете бывает все, и в ящиках вполне могут оказаться сандвичи, но если есть хотя бы шанс, что драгоценности подлинные, ты должен присутствовать при открытии ящиков.
— Кто еще знал об этом, кроме тебя и сэра Крамнера?
— Не имею ни малейшего представления. Но твердо уверена, что в «Баллантайн» никому ничего не известно.
Оуэн сунул руки в карманы и покачал головой.
— Не пойму, что, черт возьми, тут творится, но чувствую себя так, будто сорок восемь часов назад спрыгнул с обрыва, а земли по-прежнему не видно. Ты полностью перевернула мой мир. Стоит мне подойти к тебе, как непременно что-то случается.
— Это так уж плохо?
— Разве я сказал, что недоволен? Ладно. Давай вернемся и посмотрим, что там у него.
Мистер Раш отпер замки и откинул крышки, и слепящие снопы света ударили в глаза. Содержимое ящиков поражало воображение. Если не считать драгоценностей английской короны, эта коллекция была, по моему мнению, самой сказочной на свете.
Оуэн и Бертрам потеряли дар речи.
Мы следовали за мистером Рашем вдоль ряда металлических ящиков, выложенных прекрасно сохранившимся дорогим красным бархатом. В первом лежали диадемы, включая ту, что выглядела точной копией диадемы, бывшей любимым украшением британской королевской семьи большую часть двадцатого века и известной как диадема великой княгини Романовой.
— Это то, что я думаю? — спросила я.
— Узнаете?
Лицо мистера Раша прояснилось.
— Та, которую вы видели, действительно принадлежала великой княгине, а эта… — Мистер Раш вынул диадему и высоко поднял. — Эта — оригинал. Императрица заказала ее в тысяча восемьсот семидесятом году и надевала в торжественных случаях. Поразительная работа, не правда ли?
В ослепительном свете пылали пятнадцать пересекающихся, усыпанных бриллиантами кругов, и в каждом было подвешено по кашмирскому сапфиру-кабошону величиной с яйцо малиновки. Огромные синие слезы слегка подрагивали, словно готовясь упасть.
— Вы знаете ее историю?
— Нет. Не согласитесь рассказать?
Раш польщенно улыбнулся.
— Вдовствующая императрица была очень привязана к своей племяннице Минхен, жене великого князя Владимира, которая считалась одной из самых блестящих светских львиц Санкт-Петербурга.
Я читала о Минхен. Умная, веселая, проницательная двадцатилетняя немецкая принцесса, ставшая женой сорокалетнего великого князя Владимира, самого богатого и могущественного из русских аристократов, быстро добилась успеха и власти в обществе. Вскоре она приобрела огромное влияние, и их дом на берегу Невы, Владимирский дворец, сегодня вошедший в комплекс Эрмитажа, стал называться малым двором. Минхен добилась своего не только благодаря богатству и силе характера, но и потому, что истеричная, склонная к мистике, занятая своими переживаниями и болезнью сына императрица Александра целиком подпала под влияние своего «друга», негодяя Распутина, совершенно не интересовалась ни обществом, ни делами двора, что в конечном результате привело не только к распаду семьи и монархии, но и всего государства Российского.
— Всякий, кто хотел чего-то достичь, будь то при дворе, в армии или правительстве, знал, что настоящая власть — в руках Минхен и ее мужа, — пояснил мистер Раш.
Трудно описать мои ощущения при виде диадемы. Она была столь ослепительной, что казалась ненастоящей, как корона в фильме.
— Можно? — прошептала я, протягивая руки.
Он передал мне диадему, я поднесла ее к свету и долго смотрела, как свет дробился в десятках граней.
— Великолепна.
— Все равно что оказаться в центре грозы, под вспышками молний, верно?
Я кивнула и отдала диадему.
— Как я уже сказал, — продолжал Дмитрий, — вдовствующая императрица обожала Минхен. У них было много общего, включая страсть к драгоценностям. Свою невестку, царицу Александру, Мария Федоровна терпеть не могла, считала дурой и винила в слабостях царя, в его отказе примириться с реальностью. Но об этом как-нибудь потом. Слишком длинная история.