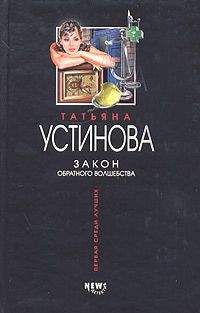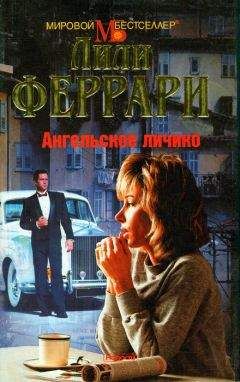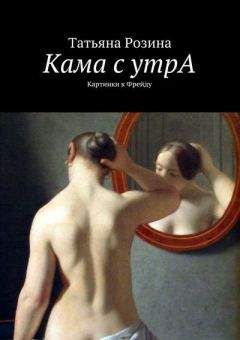— А если я у Ивана Ивановича спрошу?
— Надо туда спуститься. Держите фонарь.
Анфиса взяла у него фонарь, стала на колени и тоже свесилась головой вниз.
В подполе оказалось просторно и холодно, как бывает только под землей. Воздух был довольно влажный, спертый, и пахло на самом деле какой-то химией.
Ряды банок уходили за горизонт — огурцы, помидоры, перец. Грибы стояли отдельно, на широкой полке, все пронумерованные по годам и месяцам. Петр Мартынович был исключительно аккуратным человеком. Видимо, он даже пыль с них стирал, потому что банки сверкали, как недавно вымытые. Анфиса повела фонарем и обнаружила бутыли, которые стояли на цементном полу. Некоторые были темного стекла, а другие прозрачные. Видимо, голубая мечта бывшего мента Юры Латышева — самогон. На горлышки темных бутылей были надеты воздушные шарики разной степени надутости, а светлые были заткнуты чистыми тряпицами.
— А окорока? — вдруг спросил Юра у самого ее уха. — Еще должны быть окорока, свешивающиеся с крюков!
— И еще неощипанные фазаны и зайцы, — поддержала его Анфиса, — как на фламандском натюрморте.
— Куда вашим фламандцам до запасливого русского мужичка!
— Это точно.
Он вытащил из-за ремня снятый со стены портрет, пристроил его на пол и вдруг лег на живот, подтянул рукав и зачем-то сунул руку в щель между бревнами.
— Что там? Дохлая мышь?
— Сами вы дохлая мышь!
Что-то звякнуло, и он вытащил руку:
— Смотрите.
Это был спичечный коробок и свечной огарок.
— Вот вам и свеча. Электричества у него в подполе нет, он здесь специально держал свечу и спички. Чтобы светить себе, когда лезешь за самогоном.
— Вам бы только за самогоном!..
— Это точно. Держите фонарь.
Он перекинул вниз ноги, нащупал ступеньку лестницы, которая была прислонена с одной стороны, подтянул себя на руках и спрыгнул вниз.
— Ну что там?..
Юра стоял в погребе и оглядывался по сторонам.
— Что, что там?..
Анфиса лежала на животе, и свет, который был у нее в распоряжении, весь сливался вниз, туда, где Юра оглядывался по сторонам и трогал рукой стены, и она изо всех сил старалась не ударяться в панику.
Теперь ей казалось, что привидение со старого портрета — в немецких погонах и фуражке с высокой тульей — сейчас приблизится неслышно, столкнет ее вниз, аккуратно закроет тяжелую крышку, а сверху поставит тяжелый буфет, и больше никто и никогда не найдет Анфису Коржикову и бывшего мента Юру Латышева!
Юра вдруг пошел по проходу между банками, пригибаясь и не торопясь, и ей стало совсем… неуютно.
— Юра, вы куда?!
— Там что-то… есть. Я взгляну.
— Юра, не уходите, я боюсь!
Он задрал голову и посмотрел вверх.
— Ничего страшного. Я здесь.
— Нет, не уходите!
— Анфиса.
— Я тут одна не останусь!
Он помолчал, нагнулся и стал рассматривать полки.
— Тут кругом воск. Белый, как у него на руке. Он был здесь в ту ночь, когда его убили. Я должен проверить.
— Юра, я с вами!
Тут она сообразила, что ведет себя в полном соответствии с правдой жизни, регулярно демонстрирующейся в американском кино, именно ей, как главной героине, он и должен поддать под зад в финальных кадрах. Все это она осознала, но тем не менее проскулила тихонько:
— Юра…
Он вдруг повернулся, сделал шаг назад, задрал голову и оказался с ней нос к носу.
— Анфиса, если хотите, я могу проводить вас домой.
— За… зачем?
Его нос возле ее собственного Анфису нервировал.
— Вы боитесь. Вы боитесь или не боитесь?
— Боюсь.
— Я провожу вас домой.
— А потом что?
Он шумно вздохнул.
— Вы будете пить чай с бабушкой и Клавдией Фемистоклюсовной.
— А вы?
— А я вернусь сюда.
— Господи, вот я и спрашиваю — зачем?!
Ничего она не спрашивала, просто тянула время, и они оба это понимали. Вариантов было два: или она отправляется домой на самом деле, или ей придется спускаться за ним в подвал и там, среди банок с огурцами и бутылей с самогонкой, искать нечто, трудно вообразимое.
А подвал — она еще немного подъехала на животе к краю и вытянула шею, — подвал довольно длинный и, кажется, сужающийся.
— Дайте мне руку. Я так не слезу.
— Вы… уверены?
Анфиса засопела и стала потихоньку съезжать в дыру под полом.
— С той стороны лестница. Можно по ступенькам.
— Я упаду. Ненавижу лестницы.
Анфиса сунула руку ему в ладонь, оттолкнулась и спрыгнула вниз. Юра поймал ее и осторожно опустил на пол.
И что?
И ничего?
Позвольте, а как же романтическое чувство, которое, по идее, должно было охватить обоих от неожиданной, особенной близости — да еще под покровом ночи, да еще в чужом подвале, да, еще, так сказать, перед лицом неизвестной опасности?! А все эти запахи и звуки, а обостренное восприятие, а то, что «никто и никогда раньше ничего подобного не чувствовал»?! А случайное, мимолетное объятие среди соленых огурцов и маринованных грибов?! Даже нет, не объятие, а случайное прикосновение, дрожание волос, блеск глаз?! Все, столь любимое романистами во все времена?!
Ничего. Ничего!
Юра Латышев, озабоченный, видимо, вовсе не дрожанием волос и блеском глаз, а соседским подполом, аккуратно поставил ее на свободное место и спросил негромко:
— А где фотография? Та, со стены?
— Там осталась.
— Надо взять, — велел он самому себе, потянулся, пошарил, достал портрет и опять сунул его себе в штаны. — Видите? Вон там?..
— Что?
— Как будто дверь. Видите?
Анфиса выглянула из-за его плеча. В кирпичной стене на самом деле была дверь.
— Господи, — пробормотала она, — только этого нам не хватало!
— Хорошо бы узнать, что здесь было раньше, — опять себе под нос проговорил Юра. — Странно. Дом не слишком старый, а такое впечатление, что…
— Что?
— Что подпол старый. И фундамент тоже. Видите, какие кирпичи? При советской властей таких уже не делали.
Анфиса посмотрела. Кирпичи как кирпичи.
Юра осторожно протиснулся вперед, остановился и нагнулся, чуть было не подддав ей джинсовой задницей.
— Вот его свеча, — сказал он, рассматривая что-то на полу. — А вот чем его… усыпили.
И двумя пальцами он поднял с пола прямоугольный кусок толстой тряпки. Анфиса схватила его за плечо.
— Что это такое?
Юра издалека потянул носом и слегка отодвинул вытянутую руку, в которой была тряпка.
— Не надо ее нюхать. Нанюхаетесь, голова будет болеть.
— А что? Что это такое?
— Хлороформ, надежное проверенное средство. Как раз времен Первой мировой войны, по которой вы так скучали.
— Я не скучала по Первой мировой войне! Это вы сказали, что портрет времен Первой мировой, а я, наоборот…