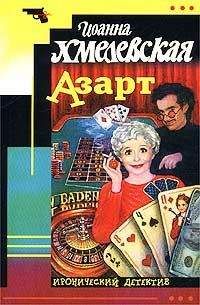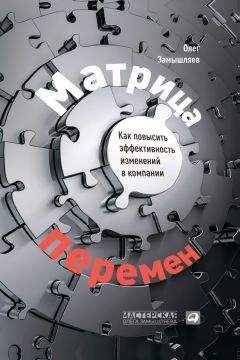Через несколько минут Оуэн попросил соединить его с Гилом.
— У меня кое-какие сведения, — объявил он без предисловий. — И план тоже. Она в жизни не поймет, что ей врезало по башке.
Кубла Хану предстоит столкнуться с Годзиллой. Бедная Одесса!
Наше взаимное увлечение граничило с безумием. Мошенничество. Бомба. Драгоценности. Напряжение все нарастало. Наша известность росла. Мы стали кем-то вроде рок-звезд. Куда бы мы ни заглянули: «Гринз» или «Уилтонз», «Кэприс» или «Маркс», выпить мартини в маленьком баре в «Дьюкс» или провести уик-энд в Кливдене, ставшем нашим традиционным убежищем, люди непременно подходили к Оуэну, расспрашивали о взрыве, русских драгоценностях, рассуждали о беспрецедентных мерах охраны, которые он будет вынужден предпринять в будущем. Оуэн распускал хвост, пыжился, довольный всеобщим вниманием. Я грелась в лучах его славы, повторяя себе, что для меня это почти все равно что пламя страсти.
Секс становился все более пылким и изощренным. Я пользовалась всеми преимуществами долгого постельного опыта Оуэна. Он соблазнял меня. Ласкал. Доводил до невиданных высот экстаза. Боготворил. Обожал.
— Я люблю тебя, Кик, — вдруг сказал он.
Мы сидели за «нашим» столом в «Кэприсе», ставшем «нашим» рестораном. Официант только унес устричные раковины и наполнил бокалы оставшимся в бутылке шампанским.
— Что?
— Я сказал, что люблю тебя.
— Не говори глупостей.
— Чего ты боишься?
— Ничего я не боюсь.
— Почему не хочешь видеть, как прекрасно мы друг другу подходим?
— Это длинная история, Оуэн. Давай оставим все, как было.
— Послушай, дела обстоят так: я в тебя влюблен. Но… — Он протестующе поднял руки. — …при этом я не требую, что ты должна меня любить. Но вот что я тебе скажу: в один прекрасный день ты тоже полюбишь меня, потому что, если я чего-то захочу, не успокоюсь, пока не добьюсь своего. И знаю, что рано или поздно ты поддашься моим чарам.
— Нет, ты — это что-то, — рассмеялась я.
На ужин нам подали варенную на пару белую спаржу, седло ягненка, такое нежное, что мясо отделялось от костей при малейшем прикосновении вилки, шпинат с маслом и жаренный с чесноком картофель. Оуэн даже сам заказал вина: «Кот-Роти Брюн э Блонд» урожая восемьдесят третьего, прекрасное вино с виноградников Роны, прекрасного года, и «Луи Бовар Совиньон Вилетт» урожая девяносто восьмого года.
— Конечно, оно швейцарское, — заметил он, — но идеально идет к спарже.
(Сразу скажу, что в этом он оказался прав.)
— Смотрю, ты быстро учишься, — похвалила я.
— Стараюсь.
Мы говорили о вине, еде и бизнесе. Не о любви. Оуэн подробно рассказывал о своих планах на «Баллантайн», которую собирался сделать компанией-миллиардером в ближайшие пять лет, машиной для добывания больших денег.
Меня по-прежнему раздражало, что он совершенно равнодушен к самой фирме. Он вложил в нее уйму денег, знаний и надежды, но ничего личного. «Баллантайн» для него — всего лишь средство достижения цели. Я, как владелица пятнадцати процентов акций, была уверена, что такое полнейшее отсутствие личной приверженности не способствует успеху в будущем.
— Миллиард за пять лет? Боюсь, Бертраму придется трудно, — возразила я.
— Если он не переносит жары, пусть убирается с кухни, — пожал плечами Оуэн.
— Чушь собачья. Если бы не способность Бертрама устанавливать связи с клиентами, нас вышвырнули бы из бизнеса уже с полгода назад, и ты это знаешь. Пойми наконец, Оуэн, когда дело доходит до личных отношений, типа один на один, — ты безнадежен.
— Кроме тех случаев, когда это позарез необходимо.
— Верно.
Я подняла бокал.
Принесли шоколадное суфле и новую бутылку шампанского. За официантом шел метрдотель с большим свертком в серебряной бумаге, перевязанным зеленой атласной лентой.
— С днем рождения, — прошептал Оуэн.
Внутри оказался набор из шести китайских тарелок начала восемнадцатого века, с гербом Кесуиков, моих очень-очень-очень дальних родственников, хотя я до сих пор не возьму в толк, как кому-то носящему благородное шотландское имя Кесуиков взбрело в голову оказаться в Оклахоме.
— Это фамильный герб Кесуиков, — гордо объявил Оуэн.
— Знаю, — с трудом выдавила я. Тарелки были редкими и очень дорогими. — Где ты их достал?
— Это было нелегко, особенно без твоей помощи.
— Глазам не верю. Никогда еще не получала такого прекрасного подарка.
— А я никогда еще не дарил ничего подобного, уж поверь. Кстати, как насчет установления отношений?
— Туше, — рассмеялась я.
Оуэн тоже поднял бокал.
— За нас.
— За нас, — ответила я гораздо охотнее, чем следовало бы.
* * *
После этого он стал дарить мне и другие подарки, но при этом ни одного от собственных компаний. Все его подношения отличались продуманностью и хорошим вкусом: старые книги, редкие вина — и я вдруг с головой ушла в водоворот наслаждений и счастья, хотя честно пыталась выплыть. Честно, но не слишком рьяно.
Все напрасно. Я привыкла к роскоши, но получать удовольствие было для меня внове. Любовь стучалась в двери. Но я продолжала повторять ему и себе, что «нас» просто не существует.
Я чувствовала, как мои опасные секреты рвутся выйти на поверхность. Чувствовала почти болезненную потребность поделиться с ним. Сколько раз предательские слова были готовы слететь с языка. Сколько раз мне хотелось рассказать Оуэну все о своем прошлом. Что я, малолетняя преступница из Оклахомы, стала знаменитой воровкой драгоценностей, одной из лучших в стране, что купила ферму в Провансе, что Давно получила водительские права и владею не одной, а двумя машинами.
Иногда слова буквально забивали рот, и приходилось глотать их целиком, запивая шампанским. Выгонять из головы, как назойливых мух.
«Неужели не видишь? — хотелось мне кричать. — Неужели не понимаешь? Я сестра Раскольникова! Живое свидетельство правдивости «Преступления и наказания»!»
Прошлое преследовало меня, и приходилось бежать быстрее и быстрее, чтобы его обогнать.
Далеко не все вечера мы проводили вместе: бывало, он уезжал на деловые встречи, или я слишком уставала. В такие ночи я брала в индийском ресторане цыпленка карри и рис, такие острые, что волосы, казалось, вот-вот загорятся (Оуэн ненавидел карри, я его обожала. Чем острее, тем лучше), оставалась дома, ела, сколько хотела, ощущая, как от жгучих пряностей и раскаленного чатни слезятся глаза и течет из носа.
Я постепенно паковала книги в коробки (мои любимые руководства по украшениям, камням, огранке и оправам) и отправляла в Сен-Реми, на адрес Элен, сестры моего управляющего Пьера. Их место заняли тома в кожаных переплетах, заглавия которых соответствовали содержанию. Зачем я все это делала? Сама не знаю. Потому ли, что по-прежнему собиралась уехать навсегда, или боялась, что Оуэн что-то заметит и начнет задавать вопросы? Не хотела рисковать?