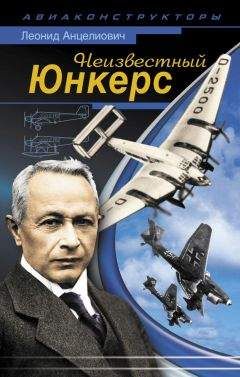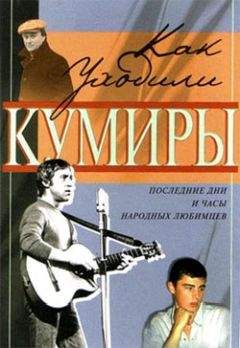– Конечно, конечно, – перебил доктора Алекс. – Мы все сделаем. А вы пишите…
Доктор поднял глаза, посмотрел на Алекса с каким-то вновь возникшим изумлением, потом сокрушенно покачал головой и склонился над бумажкой.
– Вот, Придурок, тебе документ, – сказал Алекс в коридоре, отдавая Кешке одну из выписанных доктором бумажек. – Храни его как следует. Здесь написано, кто ты такой есть, и чего ты по жизни стоишь. А зовут тебя, согласно этому документу, Иннокентием Алексеевым, в честь меня, и лет тебе, согласно ему же, 14. А сколько на самом деле – бог весть. Не знаешь, сколько тебе лет-то, а, Придурок?
Кешка отрицательно покачал головой и аккуратно спрятал документ во внутренний карман куртки. В тот же день к вечеру он переложил его в свой чердачный тайник, в котором хранился перстень, куколка-пупсик, картинка с грустной женщиной и младенцем и лесной охотничий нож.
В суть Алексовой жизни Кешка проникнуть не пытался. Вопреки уверенности Алекса и в полном согласии с предположениями Бояна, никакой зависимости своей Кешка не ощущал, считал себя абсолютно свободным и начинал уже подумывать о том, чтобы от Алекса сбежать, и поискать приключений где-нибудь в другом месте. Особенно мысль эта окрепла после того, как однажды к вечеру, выходя из машины у Алексова дома, Кешка взглянул на небо и вдруг понял, что не знает, какая сегодня в течении дня была погода. Светило ли солнце, какие были облака, шел ли снег, и если шел, то какой, сухой или мокрый, какого цвета был закат и какую погоду он предвещал на завтра. Не знать, не заметить всего этого – такая вещь была абсолютно немыслимой в прежней Кешкиной жизни. Он почувствовал себя обиженным и обворованным неизвестно кем, как бывало, когда какой-нибудь находчивый лесной зверь или птица отыскивал и опустошал его, кешкины, ягодные, грибные, ореховые кладовые или силки. Одновременно с этим пришла и мысль о том, что в вечной тесноте города, когда редко удается взглянуть дальше, чем на бросок вперед, вроде бы менее острым стало зрение, а нюх так и вовсе пропал наполовину от обилия острых и неприятных запахов.
Красиво и чисто одетые люди с острыми, колючими взглядами больше не пугали и не интересовали Кешку. В них также не было тайны, как и в обитателях помоек. Их жизнь напоминала Кешке жизнь колонии чаек – жестокую и бескомпромиссную борьбу лощеных гладконогих птиц с резкими, безжалостными голосами. Часто, мотаясь с Алексом на машине по городу, проясняя, закрывая и утрясая бесчисленные «дела», Кешка вспоминал рваный и ломкий охотничий чаячий полет, внезапные холостые броски, поспешное удирание с удачным уловом, пока не отобрали сородичи… Не в силах разглядеть и понять ничего, кроме поверхности жизни, Кешка, тем не менее, был абсолютно лишен предвзятости, и потому многое видел удивительно точно.
Однажды он спустился в метро, в надежде встретить там Евгения Константиновича и поговорить с ним, но того нигде не было видно. Кешка решил, что старый музыкант, должно быть, заболел. Еще от насельников он слышал, что болезнь – неприятное событие, которое довольно часто случается с людьми, особенно пожилыми, но до сих не очень хорошо представлял себе, что это такое. Прихварывающий Боян пытался объяснить ему, но Кешка объяснений не понимал. Сам он всегда твердо знал причину своего плохого самочувствия – долго не ел, съел что-нибудь плохое, долго плавал в холодной воде, отморозил или обжег руку – и наличие еще какой-то таинственной болезни в отсутствие этих понятных и легко обозначаемых факторов казалось ему туманным и мало правдоподобным. Когда Боян в отчаянии от Кешкиной непонятливости сослался на смерть, как следствие какой-либо из болезней, Кешка только пожал плечами. Он видел много смертей и знал, как ему казалось, все их причины. Умирают от несчастного случая, умирают, став чьей-нибудь пищей, умирают, защищая себя, свою самку или своих детенышей. Еще умирают от слабости, от исчерпанности сил и просто от нежелания жить. Этим рядом, по мнению Кешки, исчерпывались все возможные причины смерти, и что же остается на долю загадочной болезни – оставалось совершенно непонятным.
Жизнь в Городе только подтверждала его точку зрения.
Он несколько раз приходил к Гуттиэре и не заставал ее дома. Потом как-то раз, поднимаясь по широкой темной лестнице, со стертыми за долгие годы, скользкими от плевков ступеньками, увидел Федю, который сидел, обхватив руками колени, на широком подоконнике на один пролет ниже знакомой квартиры. Прямо над его головой красной краской была нарисована звезда, из которой проистекала какая-то надпись. Федя курил папиросу, рядом с ним лежала на боку пустая жестянка, а в глазах отражался тусклый свет сыроватых предвесенних сумерек. Он был, как всегда, тих и печален. Отражение Феди в оконном стекле казалось почему-то злобным и взъерошенным.
– Ты опять ругался с Гуттиэре? – спросил Кешка, останавливаясь возле него.
Федя вздрогнул и дико взглянул на Кешку, как будто совершенно не рассчитывал его здесь увидеть. Потом с силой прикрыл глаза и снова распахнул их, как бы ожидая, что Кешка исчезнет. Кешка не исчез.
Тогда Федя с отвращением выплюнул папиросу и заплакал. Кешку затрясло. По Фединым щекам катились мутные слезы, длинные мокрые ресницы слиплись в стожки по несколько штук и отбрасывали на подглазья коричневые тени.
– Что?! – беззвучно спросил Кешка.
– Ира умерла, – тихо и печально сказал Федя, не переставая плакать. – В больнице. Позавчера.
Кешка опустил голову и сковырнул ногтем прилепленную на подоконник бледно-зеленую жвачку.
– Почему ты не спрашиваешь: «Отчего? Как это случилось?» – поинтересовался Федя через несколько минут молчания. – В таких случаях всегда так спрашивают.
– Я знаю, – спокойно ответил Кешка. – Мне не надо спрашивать.
Лицо Кешки не изменилось, но Федя вдруг со страхом заметил, как проминается под его пальцами старая и трухлявая доска подоконника, в которую он вцепился во время разговора.
– Что же ты знаешь? – горько спросил он. – Что ты можешь знать?
– Она не хотела жить. Хотела хотеть, но не могла. Таким, как она, нужно держаться, опираться на что-нибудь. Как цветок вьюнок, знаешь? – Федя кивнул, соглашаясь. – Ты – слишком слабый. Ты не мог держать ее.
– Ты думаешь, я виноват? Ты же ничего не знаешь… – по мнению Кешки, Федя должен был бы выкрикнуть эти слова, может быть, даже попробовать дать Кешке в морду, но Федя произнес их едва слышно.
– Дерево не виновато, что не может бежать, – подумав, сказал Кешка. – Олень не виноват, что у него нет хвоста, чтобы махать мух.
– Наверное, ты бы мог помочь ей, – задумчиво сказал Федя. – Если бы ты был постарше и появился раньше…