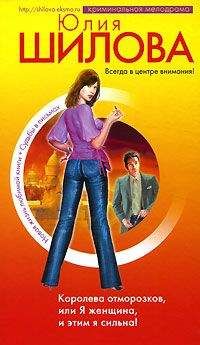– Я женат.
– Надо же! Обычно люди твоей специальности не заводят семьи.
– Я женат уже пятнадцать лет.
– Сколько?!
– Пятнадцать лет.
– Господи Исусе! Я думала, что столько лет люди вместе не живут. Ну тогда понятно, что свою жену на банкет ты не поведешь. Она просто испугается моих ребят.
– У меня есть с кем пойти, – засмеялся Жорик. – Возьму девушку не из пугливых.
– Тогда желаю хорошо отдохнуть.
– Чупа, а как же тот, в подвале?
– А что ему будет? Пусть сидит. Я сказала домработнице, чтобы она отнесла еду кому-нибудь из охраны, а они передадут ее нашему курортнику Так что с голоду не помрет. Пусть пару дней посидит, а потом можно будет и разговаривать.
– Нет, просто он такой здоровый! Я боюсь, как бы он батарею не оторвал…
– Не оторвет.
Попрощавшись с Жориком, я подошла к камину и растопила его. Затем налила себе порцию виски, размером в два пальца, растянулась на медвежьей шкуре и стала наслаждаться напитком богов. Сколько я выпила виски за свою жизнь – известно только мне. Если сложить все бутылочки, можно было бы спокойно открыть элитный магазин. Шкура медведя всегда теплая и так прекрасно ласкает тело. Эту шкуру притащил в свое время Фома. Когда-то резвый камчатский медведь носился со своими «коллегами» по тайге и думать не думал, что его постигнет столь печальная участь. В моей спальне расстелена шкура рыси. Я никогда не была поклонницей Гринписа и не состояла в комитетах по спасению животных. Я такая – какая есть, и не люблю лицемерить. Одной из моих самых больших слабостей являются меха. Они вызывают во мне возбуждение, страсть, и я с удовольствием надеваю шубы прямо на нижнее белье. Фому всегда это шокировало. Но ему, убогому, не понять, что значит ощущать прикосновение хорошо выделанного меха к обнаженному телу. Моей самой большой слабостью всегда была белая норка – только не какая-нибудь крашеная подделка, а норка-альбинос. Когда я вижу этот мех, то трепещу с такой дикой силой, что уже никто не может меня остановить.
Мне никогда не было жалко этих животных. Как я могу жалеть животных, если не умею жалеть людей?
От выпитой порции виски у меня приятно закружилась голова, тело стало легким и невесомым. Я подошла к бару, налила вторую порцию и вновь растянулась на шкуре медведя. Камин пылал так жарко, что мне пришлось встать, раздеться до трусиков и лечь обратно. Я перекатилась на спину и почувствовала, как затвердели мои соски.
Тело напряглось, как струна, на шее выступили маленькие капельки пота.
Я закрыла глаза и вспомнила свой далекий Хабаровск. Очень часто бывают моменты, когда я начинаю жалеть себя. Кто виноват в том, что жизнь повернулась именно так, а не иначе? Грязные приставания ненавистного мне отчима оставили в душе настолько черный след, что даже по прошествии времени ни с того ни с сего всплывают в памяти.
Вот я лежу на своей даче, которая тянет почти на миллион долларов, на медвежьей шкуре, которая тоже стоит немалых денег. За окнами стоит мой шестисотый «мерседес», и только одному Богу известно, какой ценой мне все это досталось. Деньги никогда не бывают чистыми. Они грязны только потому, что называются деньгами. Они достаются нам потом и кровью, но когда мы приходим к большим деньгам, то стараемся забыть про все унижения, через которые пришлось пройти, прежде чем в кармане завелась кругленькая сумма.
Вот сейчас я имею деньги и власть. Головорезы слушают каждое мое слово и исполняют все мои прихоти.
Коммерсы дрожат и заглядывают в рот. А ведь все могло быть совсем по-другому. Я всего достигла сама. Я сильная. Я такая сильная, что иногда даже сама себе удивляюсь. Моя жизнь просто не могла сложиться иначе. Я не отношусь к тому типу девушек, которые, встретив богатого дядю, любой ценой пытаются женить его на себе. Мне всегда приходилось доказывать свою неординарность самой, драться за место под солнцем зубами. Наверное, это оттого, что я родилась в семье, где до меня никому не было дела. У меня не было любящей мамы, трясущейся за свое чадо больше всего на свете, не было доброго папы.
Моя семья считалась неблагополучной, и это клеймо стояло на моем лбу все школьные годы. Я никогда не любила школу и все, что с ней связано. Мне приходилось ходить на занятия в дырявых туфлях со скособоченными каблуками. Это были самые дешевые кооперативные туфли.
Однодневки – как их тогда называли. Только вся разница состояла в том, что мои сверстницы если и покупали такие, то носили лишь несколько недель, а я таскала их год.
Когда туфли начинали несносно жать, я стаптывала пятки. А позже я обрезала задники, и получались шлепанцы.
При воспоминаниях о капроновых колготках меня вообще кидает в дрожь. Они были зашиты до такой степени, что, когда рвались, их не было смысла зашивать. Мои колготки были похожи на большой клубок разноцветных ниток. Господи, о каких кавалерах могла идти речь! Меня никогда и никто не любил. Что ж, это помогло мне полюбить себя и увидеть в себе сильную личность. Я стала сама для себя доброй мамой и заботливым папой. В те годы, когда мои сверстники бегали по дискотекам и собирались в компании, я шла в «Интурист» и мыла полы в туалетах.
Банка хлорки и резиновые перчатки стали моими первыми рабочими инструментами.
Я хорошо помню тот день, когда мне выдали первую в жизни зарплату. Я держала эти жалкие червонцы и обливалась слезами. Дойдя до первого кооперативного ларька, я купила себе ярко-красные дешевые туфельки на каблучках и новые колготки. Принарядившись, представила, что это моя милая ласковая мама сделала мне столь щедрый подарок. Расставаться со старьем было жалко, хотя еще немного – и от него осталась бы одна труха. Я аккуратно завернула изношенные туфли в пакет и выкинула в мусорный бак. Следом полетели колготки.
Я всегда умела работать, если знала, что за эту работу мне дадут денег. Прошло время, я уже не мыла туалеты, а убирала номера. Иногда я находила на кроватях долларовые купюры. Это были чаевые за то, что номера сияли чистотой. Даже смешно вспоминать, но в те времена, держа в руках жалкий доллар, я не могла нарадоваться своему счастью.
Закончилась школа. Кто-то готовился поступать в институт, кто-то в училище, а я твердо знала, что для меня двери этих заведений навсегда закрыты. Мне не на кого надеяться, а на стипендию я не потяну. Меня может спасти только работа. Я даже не смогла пойти на выпускной бал.
Мне просто было не в чем… Одноклассники пришли бы нарядными, с довольными родителями и цветами. У меня же не было ни того ни другого. Ни хотя бы мало-мальски приличного платья, ни приличных родителей, которых можно было бы привести в общественное место. В тот вечер я горько плакала и танцевала со шваброй в коридоре.