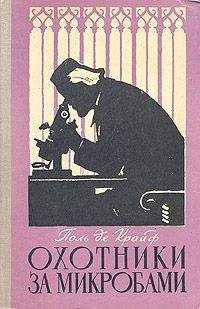– Вы надолго к ней? – спросила она, глядя исключительно на Вовку.
– Не я, а вот эта барышня. – Вовка чуть сильнее сжал мою руку, а потом взглянул на медсестру с такой обезоруживающей улыбкой, перед которой, наверное, не устояла бы ни одна женщина. Наша девчушка, естественно, тоже не устояла, покраснела, кокетливым жестом спрятала под шапочку выбившуюся прядку волос.
– А вы ей кто будете? – На меня она перевела взгляд с явной неохотой. Конечно, на Вовку смотреть гораздо приятнее.
– Я родственница... близкая. – Ложь далась мне легко. Ведь, если разобраться, с той, другой, Евой меня связывают узы куда более крепкие, чем родственные. – Мне бы побыть с ней наедине, если можно.
– Не положено. – Девочка нахмурилась и покачала головой. – По инструкции все свидания с пациентами только в присутствии персонала.
– Девушка, а как вас зовут? – вдруг вмешался в разговор Вовка.
– Оля. Ольга Владимировна, – поправилась девочка и покраснела еще сильнее.
– Оленька, Ольга Владимировна, – он шагнул к ней, осторожно взял за локоток, а мою руку отпустил, и я точно враз осиротела. – Ведь мы же с вами взрослые люди и прекрасно понимаем, что из всякого правила бывают свои исключения. Вы же видели пропуск, видели, чья на нем печать. Переживать абсолютно не о чем. Лучше отдохните немного в сестринской, кофе выпейте. Вы же ночь не спали, устали, наверное.
– Я кофе не очень люблю, – растерянно отозвалась девочка.
– Ну так чайком побалуйтесь.
– А вы как же?
– Он вам составит компанию, – сказала я и посмотрела на Вовку самым решительным, самым непреклонным своим взглядом. – Ведь правда же, Владимир?
Он хотел было что-то возразить, подался ко мне, но в самый последний момент передумал, кивнул, обернулся к медсестре, спросил:
– Так что, уважаемая Ольга Владимировна, не угостите вы меня чаем?
– А вы какой больше любите, черный или зеленый? – Под Вовкиным взглядом девочка вмиг забыла о должностных инструкциях, а мое сердце забилось сильнее и чаще. Ревную? Глупость какая...
– А мне любой, лишь бы из ваших рук, прекрасная Ольга Владимировна. – Вовка любезничал и как-то ненавязчиво, незаметно уводил девочку прочь от палаты номер тринадцать.
Они медленно шли по гулкому коридору, о чем-то тихо переговариваясь, рука к руке, голова к голове. К горлу подкатил колючий ком. Невыносимо сильно, до зубовного скрежета захотелось, чтобы Вовка оглянулся.
Не оглянулся... Я постояла секунду перед закрытой прозрачной дверью, прогоняя из сердца непрошеную обиду, собираясь с силами, а потом решительно переступила порог.
...А я изменилась. Волосы, кажется, чуть отросли, топорщатся смешным ежиком на макушке, и в лице больше нет той убийственно-неживой синевы, как прежде. Я выгляжу почти нормальной, почти живой. А паутина на шее уже целиком соткана. Сколько ж мне отмеряно?
Ясно, что очень мало. А ведь еще нужно решиться, как-то заставить себя поверить, что необратимое можно повернуть вспять...
Закрыть глаза, ненадолго, всего на секундочку. Сосредоточиться, собрать остатки ускользающих сил и решимости. Все, нет больше времени, я это шкурой чую, своей или чужой, уже неважно...
Медицинская бандура шумит и пощелкивает с механической размеренностью. Кнопки, рычажки, тумблеры. А мне нужен только один, самый главный, чтобы наверняка...
Есть розетка и распределительный щит. Последний, наверное, надежнее будет. Или нет? Здесь наверняка аварийный генератор предусмотрен на всякий непредвиденный случай? Непредвиденный случай – это я. И времени у меня – считаные секунды, успеть бы. В ушах Раин тихий голос: «С мертвого тела паутину кто угодно снять может». Бедное мое тело, почти живое, а скоро станет мертвым...
Руки дрожат, в голове ошметки серого тумана, того самого, с перевалочной базы. И паутина на запястье пульсирует и светится золотым. Совершенно готовая паутина...
Вдох, выдох. Надавить на рубильник. Ну же!
Мгновение кажется, что ничего не меняется, и только потом в уши вползает жуткая в своей абсолютности тишина. Бандура больше не гудит и не пощелкивает, и монитор погас. Уже можно? Оно умерло, мое бедное тело?
Смотреть больно, и касаться своего враз посеревшего лица страшно. Воздуха не хватает, точно это меня нынешнюю, живую, отключили от бандуры, а не мое и без того безжизненное, мною же преданное тело.
А оно светится... Сияние пульсирующее, злое, волнами разливающееся от стриженой макушки до кончиков пальцев. Нет, это не оно. Светится паутина. Хоть и призрачная, но сейчас, как никогда, реальная – живая.
Смотреть на нее больно – такая яркая. И дышать совсем-совсем нечем, оттого, наверное, и туман перед глазами. Боюсь ее касаться, но заставляю себя.
Она не горячая, она холодная, могильно-ледяная. И сияние, от нее исходящее, мертвое, парализующее, высасывающее жалкие остатки сил, точно серебристым коконом оплетающее занемевшую душу.
Я не смогу... Не решусь своими руками...
Или решусь? Я же сильная, я Ева-королева, а королевы на многое способны...
Все, силы на исходе, и жизнь тоже, в голове ничего, кроме монотонной, костями воспринимаемой вибрации. Ну же!..
Призрачное плетение прочное. Паутина сопротивляется, рвется с тонким, надрывным стоном. А мне уже все равно...
Вот она, моя перевалочная станция, и туман почти привычный, почти родной.
А Вовка так и не обернулся...
* * *
Осенний Париж шумный и говорливый, рядящийся в обрывки лета, как стареющая кокетка в траченное молью манто. Я люблю французскую столицу за эту непокорность увяданию. Только здесь, в суетливом безвременье, я могу чувствовать себя хоть немного живой.
А Стэфы больше нет, вот уже два года. Она умерла во сне, без мучений, а боялась, что Господь откажется принимать ее грешную душу.
– Маменька, маменька! Вы только посмотрите, какое чудо в вещах нашей Стефании сыскалось. – Машенька целует меня в щеку, улыбается ясной своей, чуть кривоватой улыбкой, смотрит глазами цвета штормового моря, откидывая со лба непокорную прядь.
На Машенькиной ладони мое проклятье – красный камешек на тонкой цепочке. А я надеялась, что Стэфа от него избавилась...
– Мама, что это?
– Это? – Собираю волю в кулак, улыбаюсь. – Так... безделица. Выбрось ее, Машенька.
Не выбросит, по глазам вижу, что не послушается, оставит себе. Ну и пусть. Просто не стану ей рассказывать. Может, время смилостивится, потеряется безделица...
Выжженная на ладони паутина отзывается болью. Сколько лет минуло, почитай вся жизнь позади, а не вырваться никак из этого призрачного плена. Я Андрюшеньку отпустила, а кто ж меня отпустит, когда время придет?..