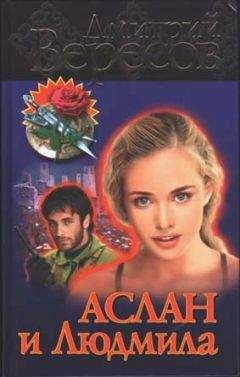— И вы ему поверили? Он сказал, что вам надо писать роман, и вы сразу взялись писать? — спросила Людмила в изумлении от такого простодушия.
— Ну, не совсем так. Поверила я ему сразу. Женой его стала тоже в первый же вечер. А вот писать роман взялась только сейчас, на войне. До этого много у Алексея Алексеевича училась…
— У кого? — Людмила как будто локтевым нервом стукнулась.
— У Алексея Алексеевича Борского. Читали его стихи? Знаменитый поэт…
— Читала… Вы сказали, что стали его женой?.. В первый вечер?..
— Ой, простите! Может, об это неудобно говорить. Но мне, кажется, что с вами можно говорить обо всем. Вы мне почему-то показались близким мне человеком.
— Еще бы, — брякнула Людмила, но поправилась. — Катя, вы действительно были женой Алексея Борского?
— Женой и ученицей. Но мы жили так, не венчанными. Ведь его законная жена ушла от него, а они так и не развелись.
Один вопрос вертелся на языке у Людмилы, когда она смотрела на эту здоровую, полную жизнью казачку. Но она никак не решалась спросить. Наконец, она с большим трудом выдавила из себя, формулируя на ходу:
— Катя! Я, знаете ли, знакома шапочно с Борским, его друзьями…
— Правда?! — обрадовалась Хуторная.
— Да, ведь тут ничего удивительного. Мир очень тесен… Я вот что хотела у вас спросить, как у женщины. Только не сочтите меня за любопытную хамку. Но вы сами это так просто сказали, что я подумала… Словом, про Борского говорят, что он сторонится женщин в том самом смысле. Вы меня понимаете? Будто он живет с ними небесной любовью. А вы такая красивая, земная девушка…
— Я поняла вас, Люда. Это все глупости. Стихи — это стихи, а жизнь есть жизнь. Неправду про Алексея Алексеевича говорят. Он очень страстный мужчина… Ой, Люда, не могу я, не умею об этом говорить… Вот только детей у него не будет. Он по молодости баловался, ходил по проституткам, болел…
— Да, знаю, — кивнула головой Люда, — вернее, слышала. Поэтому вы, Катя, от него ушли?
— Нет, — тихо ответила Хуторная, и Люда заметила, что девушка с трудом сдерживается, чтобы не заплакать. — Он сам меня прогнал. Сказал, что я с ним пропаду. А ведь при мне он пил уже не так много, как раньше. Сказал, что больше ничему хорошему я у него не научусь, что мне надо вернуться в жизнь, жить со своим народом, со всей Россией… и прогнал…
Катя закрыла лицо темной коленкоровой тетрадкой и заплакала. Хорошо плакала казачка — легко, свободно. Людмила так не умела, она плакала как-то по-другому…
Он возвращался издалека. Сам принимал партию товара от нового поставщика. Знакомился с командой волжского сухогруза. После разборок с Колошко Аслан был крайне въедлив. Еще не возместил убытки от тех глупых потерь. Вести машину за городом он любил. Ехал быстро. Но вот только слишком поздно возвращаться не хотел. Очень уж доставали «лиц кавказской национальности» в виртуальный комендантский час. Ни для кого больше, кроме них, такого часа не существовало. Приходилось откупаться. Но всегда был риск неприятностей и разборок. Карманы Аслан уже давно зашивал наглухо. Стоило чуть разозлить блюстителя порядка, как в карман можно было получить какой угодно сюрприз. И доказывать кому-то что-то было уже совершенно бесполезно.
На этом он уже погорел. И, испортив себе жизнь не на шутку, загремел в розыск. В таких случаях надо было платить. Но иногда его осторожное поведение давало досадный сбой. Характер вырывался из-под контроля. А мирным его характер было назвать сложно. Хотя и воином он себя не считал в том смысле, который вкладывали в это слово дети гор.
Будь его воля, он жил бы себе на родине. Он помнил, какая там ласкающая по шерсти красота. Все-таки до двадцати лет он там прожил. Ему плохо было в Москве. Холодно и сыро. И здесь всегда ныли старые раны. А там отпускали. Зато появлялись новые… Но сейчас у самого свободолюбивого народа на Земле жизни на родине не было и быть не могло. Если хочешь жить дома — умри. Не сегодня, так завтра. Если вообще хочешь жить — все равно жизни не будет.
Или воюй. Или живи, как таракан в чужой избе. Третьего не дано.
А третьего так хотелось. Так хотелось, чтобы все кончилось. Чтобы можно было спать спокойно. Просто спать спокойно. Без кошмаров. Без острых, как нож, пробуждений. Без постоянного, уже въевшегося намертво чувства опасности. А это чувство у его рода передавалось на уровне генов без малого три тысячи лет.
И жизнь прошла. Ему было двадцать, когда началась война. И лучшие его годы прошли. Ему уже исполнилось тридцать. А война все продолжалась.
И на любовь у него нет никаких прав.
И на счастье. Потому что он не сам по себе. Он не свободен. Он муравей в беспокойном муравейнике.
В такое время и в таком месте уродился Аслан.
Он хотел приехать и заснуть.
Ему повезло. Сегодня он проскочил.
Но когда он поднялся по лестнице, то понял, что заснет не скоро. И даже сам не мог точно определить, радует его это или огорчает.
Сначала он подумал, что она спит. Она сидела, прислонив щеку к стене. Но когда он медленно и осторожно подошел ближе, она сказала ровным и тусклым голосом:
— Я думала, ты ночуешь дома. — И ему даже смешно стало от ее глупой ревности, которая сквозила в каждом слове.
— Что у тебя опять случилось, девочка? — Одну ногу он поставил на ту же ступеньку, на которой сидела она. Оперся рукой о колено, наклонил голову, чтобы увидеть ее лицо, слегка удивленно погладил по стриженой голове. Она мотнула ею в качестве протеста. Он убрал руку. — Ну? Так что?
— Нам надо поговорить! — сказала она твердым холодным голосом. От этого тона он как-то сразу затосковал.
— И ты не могла подождать до утра… — Он обошел ее и достал из-под коврика ключ. — Ну ладно, пойдем, поговорим.
Она поднялась. В кожаном плаще и сапогах. Стройная и гордая. Непривычно постриженная. Прошла мимо него в квартиру. Разделась. Осталась в длинной юбке и полосатом свитерке, беспощадно обтягивающем ее ощутимые прелести.
Он смотрел на нее мрачно, скрестив руки на груди и прижавшись плечом к косяку. И понимал, что не надо было пускать ее к себе ночью.
Как-то это неправильно. И было ему от этого нехорошо.
— Как ты? — спросила она неожиданно весело, как-то необычно блеснув на него глазами.
— Хорошо, — ответил медленно, так, как умел только он. Он ждал настоящего разговора. И наблюдал за ней.
— А знаешь, Аслан, нам все равно теперь друг без друга никак. И узы эти попрочнее любых любовей. — Она смотрела на него непривычно безумным взглядом. И взгляд этот его неприятно беспокоил.