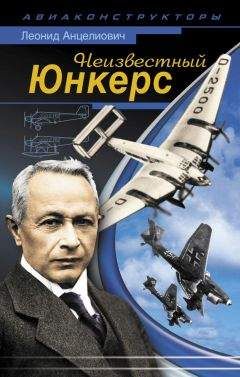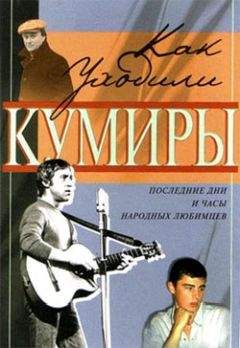– Простите, – говорил Мишель своим мягким негромким голосом, так контрастирующим с общим тоном застолья. – Но ваш образ удивительно адекватен именно этому блюду. Возьмите вилку, будьте любезны. И склоните голову немного набок. Вот так…
По истечении установленного срока Мишель на две недели заперся в фотолаборатории, а потом появился оттуда, словно из преисподней – неестественно бледный, с неугасшим огоньком красной лампы в глазах. В руках у него была увесистая пачка глянцевых, цветастых фотографий. Вообще-то Мишель предпочитал работать в черно-белой гамме и почти всегда использовал матовую бумагу, но, едва ознакомившись с будущей натурой, художник сразу же предупредил «нового русского» о том, что его жизнь будет запечатлена в цвете.
Тщеславный бизнесмен жадно схватил фотографии, начал листать их… и вскоре на его лице появилось довольно сложное выражение. Мишель был и оставался художником в каждом своем творении, но… фотографии были на удивление единообразны. Особенно много бизнесмен и его приспешники жрали. Жрали они много, жадно и красочно. Кроме того, много места на фотографиях занимали женщины и машины. И те, и другие нагло лоснились и играли бликами в самых неожиданных местах. Хорошая, выразительная серия получилась в парной и в сауне. Там ярко блестели зубы, глаза, бюсты и ягодицы. В тренажерных залах бизнесмен и его окружение напоминали стаю голодных волков. На переговорах и деловых встречах те же волки выглядели наевшимися и сторожащимися. Если бы волка из «Красной Шапочки» можно было одеть в хороший костюм и сделать менее наивным… Волчьи параллели хорошо подтверждала «охотничья» серия, где удачливые охотники, казалось, лишь ждут знака фотографа, расставившего их в колоритных позах вокруг убитого лося. Как только знак будет дан, они сбросят с себя последние остатки цивилизации и со счастливым визгом набросятся на еще теплую добычу, разрывая ее на брызжущие кровью куски.
В самом низу пачки лежала черно-белая фотография мальчика скрипача, сделанная в подземном переходе. Мишель снимал без вспышки и потому рука мальчика получилась немного размытой. С размытостью руки хорошо контрастировали внимательные, четко прорисованные глаза, глядящие прямо на зрителя. Люди вокруг мальчика казались устремленными куда-то тенями. Вслед им летела его музыка, а сам он оставался здесь, наедине с художником, соединенный с ним общей задачей и общей печалью.
Увидев этот снимок, далеко не глупый бизнесмен заскрипел зубами от бессильной ярости. Трудно было заподозрить доброжелательно-равнодушного Мишеля в намеренном издевательстве. Скорее всего, он просто вместе работал над снимками и случайно перепутал пачки. Но контраст был слишком велик. Когда бизнесмен положил рядом снимок скрипача и что-то из своей пачки и вопросительно взглянул на Мишеля, тот лишь застенчиво пожал плечами.
– Что я могу тут поделать? – мягко сказал он. – Вы ведь заказывали свою жизнь. Я, наверное, мог бы как-то по-другому расставить акценты, но мне показалось, что вы этого не хотели…Мне подумалось, что вам хочется взглянуть со стороны….
– Хватит, – сухо сказал бизнесмен. – Оставшиеся деньги получишь у моего бухгалтера. Сейчас.
Мишель поклонился, еще раз пожал плечами и ушел, так ничего и не поняв. Получив деньги, он купил велосипед сыну, духи и розы жене, и опять смотрел, как она плачет, не зная, что сказать, и страдая от того, что вот, он так остро и глубоко видит жизнь, и всякие премии вроде бы подтверждают это, но ничего совершенно в ней не понимает, и, наверное, нет уже никакой надежды когда-нибудь понять…
* * *
Выставка, состоявшаяся в сквоте, была в своем роде репетицией. Называлась она «Проходные дворы Петербурга». Мишель подбирал рамки, освещение, сочетание снимков, серии. Настоящая выставка должна была состояться в марте в помещении Академии на Университетской набережной.
Но посетителей все равно было много. Пожилой участковый, хотя и всячески одобрял искусство Мишеля, очень нервничал и просил «побыстрее это прекратить», потому что очень волновался за старые перекрытия «на предмет несчастных случаев и всяческих других членовредительских безобразиев». Снимков было много, и выставка заняла почти все теплые помещения. Потеснили и «Логус-XXII век», находящийся в очередном финансовом кризисе. Худенький режиссер пытался было организовать протест, но Аполлон вместе с хмурым Маневичем попросту перетащили тюфяки и весь инвентарь студии в другую комнату, а как всегда пьяненькие артисты, покорно и слегка вихляясь, как кошка за бантиком на веревочке, последовали за тюфяками.
Чтобы уменьшить тревогу участкового, Дети Радуги, следуя указаниям бабы Дуси, помнящей советские времена, организовали в засыпанном снегом, щебенкой и битыми кирпичами дворе очень дисциплинированную и высокообразованную очередь. Практичный Ромашевский предлагал брать по тысяче с носа за вход, но Мишель, как всегда, застеснялся и зарубил перспективный проект на корню.
– Не надо было ему ничего говорить, – досадовал краснодеревщик Володя. – Он же блажной, ничего бы и не узнал никогда. А мы бы потом отметили…за его успех…
Все то, что было запечатлено на фотографиях Мишеля, Кешка видел сам, своими глазами и не один раз.
Висящий на проводке фонарь, освещающий днем клетушку двора-колодца; разноцветные кошки, спящие на крыше и капоте легковушки, притулившейся к кирпичной, облупившейся стене; упрямое, утратившее почти все признаки вида дерево, пробивающееся сквозь асфальт почти в полной темноте; строгий квадрат неласкового неба и словно тянущиеся к нему окна; причудливая геометрия углов, арок, карнизов и переходов…
– Смотрел и не видел, – так самокритично оценил ситуацию сам Кешка в разговоре с Аполлоном. – Мишель видел.
– Ты тоже видел, но по-другому. Также и с картинами… – попытался было объяснить Аполлон, но Кешка только с досадой махнул рукой.
– Я смотрел – снаружи. Он смотрел – внутри, – объяснил он. – Также лес. Я смотрю – все вижу. Ты посмотришь – увидишь мало. Вы живете в Городе. Я жил в Лесу. Ты понимаешь меня?
– Да, так тоже можно, – осторожно согласился Аполлон. – Но тогда художник имеет право изображать только то, что он сам хорошо знает…
– Да, так, конечно, – подтвердил Кешка. – А как же еще?
– А если человек пытается изобразить свою внутреннюю жизнь? – хитренько прищурился Аполлон. – Свои эмоции, чувства, переживания? Ведь это то, что он знает лучше всего. Тогда, прости уж, друг Кеша, получаются картины, весьма далекие от наивного реализма…
– Лучше всего знает – что внутри?! – несказанно удивился Кешка, потом задумался и помрачнел. – Я – не человек, – наконец решительно подытожил он.