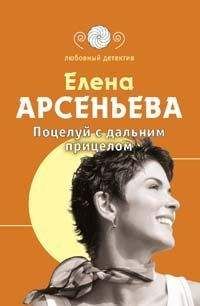Она отдернула было руку, как вдруг заметила на тропе какое-то движение.
Бог ты мой! Да ведь это Фримус вышел из дому и направляется к гамаку… идет прямиком под пулю.
Алёна рванула сук из травы и бросилась к Никите. Он успел услышать ее шаги, но оглянуться не успел: сук обрушился на его голову… и разлетелся щепками. Он совершенно сгнил тут, в этом сыром саду!
Нет, был еще порох в пороховницах: свое дело сук все же сделал. Никита рухнул в траву лицом вниз.
– Прошу прощения, – пробормотала Алёна, немножко жалея, что он не обернулся и она не увидела напоследок его яркие глаза. Теперь-то уж вряд ли доведется…
Ага, ты еще помечтай о задранном свитере и загорелом животе. И еще о щиколотках Фримуса вспомни!
Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича…
Ее затрясло.
От страха или от смеха? А может быть, от того и другого вместе?
Фримус подошел к гамаку и посмотрел на него со странным выражением, словно на старинного друга. Может быть, у него что-то с этим гамаком было связано, какие-то приятные воспоминания?
Интересно бы узнать, какие именно, но теперь уж вряд ли доведется.
– Алёна! – донесся издалека нетерпеливый голос Марины.
Господи милосердный!
Алёне показалось, что ее ледяной водой окатили. Сейчас Фримус ее увидит! Ой, нет, кажется, он ничего не слышал – повезло, но второй раз пытать удачу не стоит.
Бросив прощальный взгляд на Фримуса и еще один, столь же прощальный, на Никиту, Алёна рванулась было в сторону дома Брюнов, но замерла.
А ружье?! Киллер Шершнев скоро очнется и доведет до конца свое черное дело!
Ну уж нет.
Если ружье висит на стене, оно должно выстрелить. А если оно валяется в траве?
Алёна наклонилась, схватила винтовку, мельком поразившись ее легкости и изяществу, и, снова пригибаясь, понеслась под сливами.
Проскользнула сквозь калитку, бросилась к дому… о господи, винтовку-то она куда тащит? Еще не хватало предстать сейчас перед Морисом и Мариной вооруженной до зубов!
Ага, старый дровяной сарай, забитый дровами, нарубленными, такое впечатление, еще тем знаменитым предком Брюнов, из-за которого резко поголубел очаровательный старый дом. Ну, дрова девяносто лет пролежали – может, еще сколько-нибудь полежат.
Алёна сунула в поленницу винтовку, не заботясь, что несколько полешек вывалились наружу. Уже не до гармонии в окружающем пространстве. Времени нет его гармонизировать!
Она подбежала к кухне как раз в ту минуту, когда Марина, нетерпеливо переминавшаяся на пороге, открыла рот для нового крика.
– О господи! – воскликнула она. – Где вы ходите? Морис уже пыхтит, как чайник! Скорее ставни!
Ставни! Алёна схватила одну створку, подтянула к себе, пыхтя от усилий, потом сомкнула с ней вторую, просунула в петли железный шкворень… В кухне сразу стало темно, зато дом превратился в крепость.
Никакой на свете зверь, хитрый зверь, страшный зверь…
Марина и Алёна пронеслись через дом, словно за ними гнались как минимум два хитрых, страшных международных киллера, и выскочили на крыльцо. Морис, стоявший возле автомобиля со спящей дочкой на руках, бросил на них убийственный взгляд.
– Экипаж к отплытию готов! – отрапортовала Марина, ныряя на заднее сиденье и протягивая руки – принять дочку.
Морис не удержался – усмехнулся. Он очень любил жену.
Лизочка спала без задних ног. Алёна пристегнула ремень Марине, потом села впереди. Морис запер дом, калитку террасы, уселся за руль.
– Ну, поехали? – спросил он, оглянувшись на жену. – Алёна, пристегнитесь. Вы ставни закрыли?
– Конечно!
– А садовую калитку?
– Коне… Конечно!
Господи! Про калитку-то она забыла! Но лучше откусит себе язык, чем признается в этом.
Возвращаться – плохая примета. Да кому она нужна, эта калитка, этот сад, эта замшелая поленница?..
Морис завел мотор.
Поехали!
Старые часы на церковной колокольне пробили один раз, что означало половину восьмого.
– Прекрасно, – сказал Морис. – Аккуратность – вежливость королей!
Франция, Париж,
80-е годы минувшего столетия.
Из записок
Викки Ламартин-Гренгуар
О, можно вообразить, что творилось в эти минуты в моей бедной голове! Сколько нахлынуло на меня подозрений – самых ужасных, самых противоречивых, самых пугающих!..
Что значат эти слова Робера? Они с Никитой в заговоре – в заговоре против моего отца? А может быть, и Анна с Максимом – их совместные жертвы? И доктор Гизо помогает им обоим, а тот анализ крови моего мужа, который видела Настя, всего лишь фальшивка, прикрытие, удобный предлог для общения с доктором… И вообще, может быть, Настя все выдумала, наврала мне из обыкновенной зависти к моему браку, да невольно сообщила мне о преступлении. Мой муж здоров, но он сообщник Никиты.
Ради всего святого, но зачем им быть сообщниками? Почему им понадобилось вместе убивать Анну с Максимом, а потом и моего отца? Неужели и Робер был влюблен в Анну?
Этой дурацкой догадке была по дурости равна следующая: а что, если Никита и Робер действуют по заданию большевиков и расправляются в Париже с неугодными и чем-то опасными им людьми? О таких агентах Чека уже ходили страшные слухи среди эмигрантов…
Боже ты мой, просто поразительно, как много чепухи может родиться в голове за какое-то мгновение! Ведь не дольше мгновения длилась пауза между словами моего мужа: «Сторож видел вас с отцом моей жены и все рассказал» – и следующей репликой Никиты:
– Рассказал – кому?
– Викки.
Глубокий, резкий выдох у самого моего уха. Мне показалось, до меня долетело даже тепло дыхания Никиты, и я невольно зажмурилась, потому что глаза мои заволокло слезами.
Господи, ну зачем только я проснулась? Зачем стала подслушивать? Во многом знании – многая печаль, эту древнюю истину я постигла теперь на моем собственном печальном опыте… уже в который раз постигла, а все никак не могу жить по принципу: «Неведение – благо!»
– Вике? – повторил Никита на свой лад мое имя – он никогда не называл меня иначе, хоть меня это и злило. – Рассказал Вике?! Боже ты мой… И что же она?.. Могу себе представить…
– Не можете, – с усмешкой перебил его Робер. – Не можете, Шершнефф! Знаете, что она сказала? Якобы вообще ничего не слышала. И не поняла ни слова из того, что Федор ей наговорил.
– Одно из двух, – сказал задумчиво Никита, – или она не придала этому значения, или…
– Или, Шершнефф, – снова перебил его Робер. – Или! Она разыграла эту милую сценку по той же, все по той же старой причине, можете не сомневаться. Ради вас.