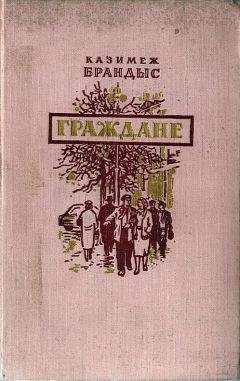Виктор смеялся, растягивая толстые губы. Он не спросил у Агнешки, зачем она пришла, и только окинул ее грустным, проницательным взглядом, который был ей так хорошо знаком. Виктор, очевидно, догадывался, что она зашла к нему не случайно, не по дороге.
Когда Снай ушел за ширму готовить чай, Агнешка вполголоса спросила у Виктора, как его дела. Он зорко глянул на нее и крикнул, повернувшись к ширме:
— Снай, как мои дела?
Снай в ответ только неопределенно хмыкнул. Его, кажется, смущало присутствие Агнешки.
— Дела мои, видимо, как сажа бела, — пояснил Зброжек, ероша волосы короткими пальцами. — Говорят, что я спился и на плохой дороге. Некоторые утверждают, что следует протянуть мне руку помощи. А кое-кто, знаешь, даже кается, зачем мне раньше не помог… Словом, заварил Зброжек кашу! Верно, Снай? Заварил я кашу, а?
— Ага! — пробурчал Снай за ширмой.
— Ну вот, видишь, — Зброжек махнул рукой. Казалось, он сейчас опять начнет паясничать. Но он умолк и задумался.
Агнешка только тут заметила, что у него забинтована кисть руки.
— Что это, Виктор? — спросила она тихо.
— Это? — Зброжек высоко поднял брови и посмотрел на свою руку.
— Это я пострадал в классовой борьбе.
На секунду их глаза встретились, но Виктор тотчас отвернулся и крикнул Снаю, чтобы скорее подавал чай.
— Агнешка, ты пила когда-нибудь чай, заваренный лириком? Нет? Так сейчас его отведаешь.
Виктор был как в лихорадке и преувеличенно весел… «Что это с ним?» — думала Агнешка.
Он, должно быть, угадывал цель ее визита. За чаем незаметно перевел разговор на новости в редакции, и Агнешка узнала от несловоохотливого Сная, что Лэнкот больше не замещает главного редактора. До возвращения Вейера газетой будет ведать новая редакционная коллегия, состав ее пока неизвестен. Называют Магурского, Бергмана… Может быть, в нее войдет и Яхник.
— Во всяком случае, не Лэнкот! — сказал Снай твердо.
Зброжек курил, окружив себя кольцами дыма.
— И подумать только, что почти полгода мне не давала жить ненависть к этому субъекту! — заметил он вполголоса.
— Напрасно ты столько пороху истратил, — пожал плечами Снай. — Хватило бы на трех Лэнкотов.
Он еще до сих пор у меня в горле сидит, как касторка… Меня в детстве всегда тошнило, когда приходилось глотать эту гадость, — отозвался Зброжек. — А в редакции приходилось каждый день принимать порцию Лэнкота. Понятно?
Снай насупился и сказал низким грудным голосом:
— Ну, будет об этом, Виктор. Это уже дело прошлое.
— Знаю… Или нет, собственно, еще не знаю. Ничего не знаю!
Он бросил взгляд на свою руку. Агнешка заметила, что бинт уже загрязнился. «Никто о нем не заботится», — мелькнуло у нее в голове, и она почувствовала себя вдвойне виноватой. Ведь она упрекала Павла, зачем он допустил, чтобы Зброжека все бросили, а сама-то пришла сюда сегодня вовсе не для того, чтобы помочь Виктору! Видно, о помощи товарищам говорится только на собраниях, а в жизни каждый думает только о себе.
— Вот ушиб руку о… Лэнкота, — сказал Виктор с усмешкой. — Ах, этот Лэнкот! Выходит, что трусы — великая сила, да! И знаете, что я вам скажу? Сила их в том, что они отлично умеют носить маску. Знаю, страшен кулак революции. Но скажите мне, как отличить кулак, сжатый в праведном гневе, от кулака, сжатого в судороге страха? Этому нам надо научиться, Снай. Да, трусы со сжатыми кулаками… Часто мы их узнаем только тогда, когда они уже душат нас за горло.
— Преувеличиваешь! — пробормотал Снай.
Зброжек покачал головой.
— Может, и так… Разворотил он мне всю душу, подлец! Думаешь, я знаю, что еще будет со мной? Мне лечиться надо. Нет, нет, Агнешка, не руку лечить, это чепуха! Мне надо лечиться от озлобления. Оно меня проело насквозь, меня все еще рвет желчью. Иногда мне кажется, что я способен теперь ненавидеть только таких, как этот Лэнкот, а на явных врагов ненависти уже не хватает… Я хотел бы истребить только этих, замаскированных, что укрылись в ветвях наших деревьев, зарылись в нашу землю… Хомяки! Сколько их? Легион. Я не знаю, Снай, не перестал ли я быть настоящим коммунистом…
Когда Снай ушел и они с Агнешкой остались вдвоем, Виктор как-то притих. Рассеянно позволил Агнешке размотать и сменить грязный бинт и, насвистывая сквозь зубы, смотрел, как она делает ему перевязку.
— Больно?
Он посмотрел на нее пристально.
— Почему это человек спрашивает, больно ли, не тогда, когда он действительно причиняет другому боль?
У Агнешки дрогнула рука. С минуту оба молчали, потом Виктор шепнул:
— Прости!
— Нет, ты меня прости! — отозвалась она тихо.
Потом стала его расспрашивать, кто ему стряпает, убирает. — Тебе не следует быть одному, — говорила она. — Сам знаешь, как это плохо, ты всегда любил людей.
А Виктор объяснил, что людей любил тогда, когда любил себя. И Агнешка не нашла, что ответить. С Виктором трудно было разговаривать. Она уже сомневалась, узнает ли от него то, что не давало ей покоя. А прямо спросить о Павле не решалась.
Но Зброжек сам облегчил ей задачу как раз тогда, когда она уже собралась уходить.
— На последнем собрании, — сказал он с расстановкой, — я нападал на Чижа. И довольно-таки резко. Не знаю, прав ли я был… Но он парень крепкий, Агнешка, ты за него не беспокойся: выдержит. Когда увидишь его, скажи, что надо прощать противников, которые пролили кровь на поле боя… Ах, я и забыл, — его ведь нет в Варшаве. Снай говорил мне, что он уехал.
— Куда? — спросила Агнешка глухо.
Она стояла, опустив глаза, и чувствовала, что краснеет под проницательным взглядом Зброжека. А он поднял забинтованную руку утрированно-патетическим жестом проповедника:
— Не знаю. Но, вероятно, с благой целью, дочь моя.
Агнешка вдруг с удивительной ясностью поняла, что скрылся Павел вовсе не для того, чтобы сделать ей назло и показать свое пренебрежение. Нет, этого, конечно, требовало какое-то серьезное дело, дело его чести и совести, во сто раз более важное для него, чем ее любовь.
Мысль эта больно ужалила ее — и вместе с тем, как ни странно, принесла спокойное и глубокое облегчение.
Это было все, что Агнешка узнала о Павле. И много и мало. Во всяком случае, достаточно, чтобы окончательно лишить ее душевного равновесия.
Знакомый голос вывел Агнешку из задумчивости, и тут только она заметила, кто уже целую минуту сидит рядом с ней на скамейке.
— Ну, знаешь, Бронка! — сказала она, очнувшись и поправляя волосы. — Не думала я, что ты способна являться вдруг ниоткуда, как призрак. Как ты меня испугала!
— Я не хотела тебе мешать, — отозвалась Бронка, поглядывая на нее из-под своих кудряшек. — Ты так задумалась…
— Но откуда ты взялась? — все удивлялась Агнешка. — Знаешь, я на днях чуть не попала к вам на Электоральную…
— Готовлюсь к экзамену, — пояснила Бронка. — Мы сидим там, за шпалерами…
— Ага, вдвоем! — шутливо поддразнила ее Агнешка.
— Да, с Янеком Зиенталей. Он первый тебя заметил. Мы всегда вместе занимаемся.
Агнешка с любопытством присматривалась к подруге. Она не могла определить, что за перемена произошла в Бронке, но Бронка явно была сейчас не совсем такая, как прежде.
— Как отец? — спросила Агнешка, вспомнив, что Кузьнар недавно болел.
— Спасибо, — чинно сказала Бронка. — Мы очень за него боялись. Но сейчас он уже здоров и работает во-всю.
Она подняла голову и посмотрела на Агнешку рассеянно, словно что-то вспоминая.
Агнешка вдруг встревожилась.
— Бронка! У тебя какие-нибудь неприятности?
— Нет. Почему ты спрашиваешь?
Но Агнешка не могла этого объяснить.
— Мы так давно не видались… Ну, и потом… ты похудела… Наверное, заучилась! — Агнешка поспешила переменить тему. — Я все время собираюсь к вам, как сойка — за море. Но ты представить себе не можешь, как я занята! Сама посуди: уроки, педагогический совет, партийные собрания, курсы, занятия… И к урокам надо готовиться, и переписывать протоколы… Вот и не остается времени для друзей.
Бронка поддакивала ей немного невнимательно — казалось, она прислушивалась к шелесту в ветвях ясеня, нависших над скамьей.
— Да, — сказала она через некоторое время. — Все теперь так живут. Для себя времени мало остается, и со знакомыми встречаешься разве только на какой-нибудь конференции или съезде… Отец постоянно о тебе спрашивает: «Бронка, почему это твоей Агнешки давно не видать? Не призвали ли ее в армию?»
Обе расхохотались. У Агнешки был уже на языке давно приготовленный вопрос. Но в последний момент она опять наткнулась на взгляд Бронки и вопроса не задала. Взгляд этот трудно было разгадать, он был, как сдавленный голос или удержанное на лету движение руки. «Может, она за что-то на меня обиделась?» — размышляла Агнешка. И чтобы нарушить неловкое молчание, стала подшучивать над Бронкой и Янеком.