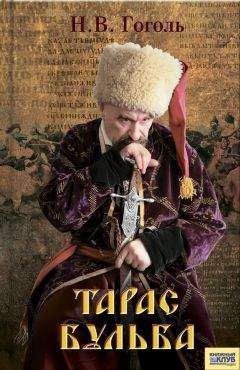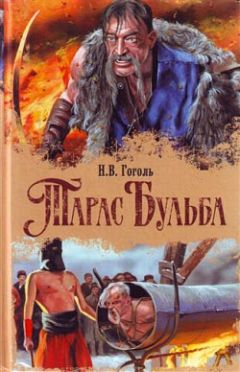Тут же возникает спор. Леха отстаивает, что Штаты после Второй Мировой ни одной войны не выигрывали, и эта не исключение. «Пятый» — Сергей — Извилина, говорит, что поставленные задачи достигнуты, используя английский колониальный прием: «и пусть они убивают друг друга как можно больше», стравили между собой суннитов и шиитов. Теперь им не до нефти, а нефть качается и вывозится беспрепятственно и бесконтрольно. Похоже, это положение затянется надолго. Выгодно постоянное тление, но не пожар…
— Надо посмотреть данные по субсидиям в США — частным и государственным на психиатрическое излечение, — говорит Извилина. — Сколько запланировано на ближайшие и долговременные сроки.
— О чем ты?
— Есть много общедоступной информации по которой можно судить какая война планируется, в том числе и следующие, в какие примерно сроки. Вот к примеру, США в середине 60‑х годов в течение четырех с лишним лет вели войну во Вьетнаме. Спустя 10 лет после прекращения боевых действий почти две трети от общего числа американских военнослужащих — примерно один миллион семьсот пятьдесят тысяч человек — официально были признаны людьми, нуждающимися в психиатрическом лечении.
— Это они закосили! — недоверчиво восклицает Казак.
— Даже если так, то вряд ли что либо изменилось, — говорит Извилина. — Разве что, в худшую сторону.
— Для них в худшую, для нас в лучшую! — уточняет Замполит.
— Мотивация… Недостаточная мотивация собственных действий, как бы не пытались им это внушать собственные политруки. На 65 процентов боеспособность частей зависит от психофизического состояния солдат и только 35 процентов приходится на техническое обеспечение. Слышали, наверное, про исследование подполковника Панарина?
— Извилина, кончай прикалываться!
— В 1995 году, одно из подразделений, направлявшихся в Чечню, предварительно тщательно обследовали специалисты–медики. Все военнослужащие были распределены на четыре группы по степени психофизической готовности к ведению боевых действий: от «первой» — абсолютны готовы, до «четвертой» — вовсе не готовы, По просьбе ли тех самых медиков, случайно ли — лично я не верю в подобные совпадения, но подразделение оказалось в эпицентре боев в Грозном. Через месяц в строю осталось менее четверти военнослужащих, остальные выбыли по понятным обстоятельствам: убитыми, ранеными, пропавшими без вести или отправлены в тыл по болезням… Короче, провели повторное обследование… Практически все, кто уцелел, как раз входили в ту самую первую группу «абсолютная психологическая готовность» к боям.
— Все равно — уроды! — заявляет Казак. — Мальчишек после такого точно придется лечить.
Лешка — Замполит опять пытается удивлять — рассказывает о новой разработке бронежилета, где защитный слой жидкий.
— Нанотехнологии! — козыряет мудреным словечком.
Казак тут же оживает, допытывается — почему «нано», но вразумительного ответа так и не получает. Но Леха горячо, со всей внутренней убежденность в правоте, уверяет, что технологию эту, даст бог, удастся использовать для создания пуленепробиваемых брюк — можно будет самое больное сберечь — потому как, в основе особая жидкость: полителен–глюколь, что сохраняет текучесть в нормальном состоянии, а когда бьет пуля, мгновенно затвердевает…
А Петька — Казак все пытается представить, что будет с человеком, у которого на бегу мгновенно затвердеют брюки и (неугомонный!) спрашивает:
— А че делать, если надолго затвердеет? И не раствердеет больше?
— То и делать! — огрызается Леха. — Гранату себе под жопу!
И Лешка — Замполит, по второму прозвищу «Щепка» (маскирующем «Заноза в заднице»), также «Балалайка» или «Балаболка», тихонько, под нос себе, рассыпает словесами непечатными, включая в них слова философские — наводит «тень на плетень»…
Какое–то время Лешка взапой зачитывается философами. Впрочем, он периодически зачитывался чем–то. Прочел множество таких путаников, случались средь них и действительно философы, и обнаружил лишь одну закономерность — все они умерли. Нельзя сказать, чтобы его это расстроило: некоторых из них он бы с удовольствием убил бы собственной рукой, поскольку негоже жить человеку, который перерабатывает бумагу и собственные мозги в то, что берется противоречить всему. Заполненость идеями (кроме — простейших) исчезла, системы и мировоззрения перестали спорить в нем меж собой, когда наконец–то понял, что нет ничего грустней и циничней философии. Каждый философ — циник, и каждый циник едва ли не философ, находит себе оправдание в собственной философии, гребет ее под себя, чтобы на ней восседать орлом на загаженном. Из всего кем–либо сказанного, не возводя в систему, оставил только приемлемое себе, отпихивая все остальное, либо кромсая на куски, оставляя лучшие не по общему смыслу, а по личному. Постепенно вооружаясь множеством цитат (которые тут же взялся безбожно перевирать), под собственное ли оправдание, под настрой, к случаю ли — лишь бы придать толчок, движение идеи на том, что не все мертвые были достойны смерти, как не все сегодняшние живые — жизни.
Чрезвычайно рано, еще до обжорства философией (оная лишь укрепила) уяснил, что между женским «нет» и женским «да» молекулу не впихнешь, где кончается одно и начинается другое не в силах определить никто, но больше всего они сами. Можно отставить философию, когда — «да», и утешаться ею, когда — «нет». По причине, что сегодня ненависть, завтра любовь и наоборот. Философствуя настрогал детей, оправдываясь перед своими, что не виноват, что и здесь, как из пистолета, попадает в цель с первого же раза.
— Оставь ниточку чувств, легче будет встретиться, — ставил силки Лешка, заговаривая «объект» до степени, что вручал вовсе не ниточку…
Обладая луженой глоткой, на одном дыхании, ни разу не сбившись, естественно и логично мог взвалить на головы такую фразу, что вспоминая, с чего началась, теряли и не надеялись вспомнить ее конец, уясняя себе только одно, что Замполит — в самом деле «замполит» — «ох и мудер»! Впрочем, когда просили повторить, чтобы записать и вызубрить, Лешке самому удавалось это не всегда; слова, прежде такие ясные и простые, начинали путаться в своем новом осознании. В укор не ставили — таков, каков есть. Душа–человек в чужом сорном венике. Застрял однако.
Иногда Леха словно заболевал, терял себя средь слов. Собственные мысли исчезали — всему находилась цитата. Как помнил? Петька — Казак имел подозрения, что едва ли не лепил сам, пусть из чужого мусора — уж слишком уж складно у него получается, к месту ли, не к месту — но не может такого быть, чтобы все мысли были уже сказаны — причем тысячи лет назад! — и что Замполит, уверяя, что то или иное было высказано каким–то мраморной памяти авторитетом, попросту прикрывает этим свой собственный зад.
«Пятый» — ходячая энциклопедия, когда обращались к нему, только посмеивался.
«Меч, не способный поразить — мертвый меч!» — вторил Леха. И все соглашались — в подразделении подобные сентенции к месту, они нужны как разноголосые подпевки к мотиву — общей, не вызывающей сомнения, мотивации. Оружие, даже самое неприхотливое, надо содержать в порядке и обязательно кого–нибудь поразить — на его изготовление государством немалые деньги потрачены.
Веселого нрава не прикупишь. Даже у Петьки — Казака не займешь. Леха больше играет в веселость, что никого не обманывает, слишком много желчи в его веселье.
— Поставим вопрос иначе: могу я обвинить ихнее ракообразие в сексуальном домогательстве к моей персоне? Если я вижу, что оное образование, наглейшим образом подменив собой законодательную и исполнительную, домогается, пытается снасильничать над моей персоной (в частности) и государством (в целом) — тем самым государством, которое, ввиду собственной детскости исторического возраста, а с тем и наивности, поручено мне защищать — о каком, простите, полюбовном или контрактных отношениях здесь может идти речь?
— Ближе к сути!
— Суть развратных действий состоит в том, что нам предлагается вступить в интимные отношения с нынешней блядской системой мироустройства, которая категорически не устраивает мою личность. Причем с навязчивостью, которая превосходит всякое терпение, и без всяких скидок на нашу нормальность! Суть моих претензий — надо мной, фигурой цельной, со здоровой ориентацией, и государством, в настоящее время недееспособным, особо нуждающемся в моей опеке, осуществляется попытка насильственных действий. Это что, простите, за… Ну, вы поняли! Как я на это должен реагировать?
У «Шестого» опять ноет ладонь, словно застарелый ревматизм или зубная боль, что отдается каждым толчком крови. Знает, что за болью готовы полезть воспоминания; тоже какими–то толчками, причем только те, что хотелось забыть, и даже казалось, что давно забыл. Странно это, более поздние шрамы так не беспокоят, а этот первый и небольшой — что в самой середке ладони — одно время исчезнувший, а сейчас вновь проступивший, лежащий поперек той борозды, что считается линией жизни… Странно. Видом, словно не он, не шрам по линии жизни прошелся, а сама линия жизни шрам рубит…