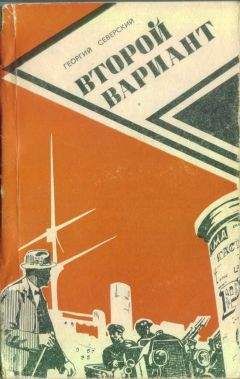Ждать пришлось долго. Все сильнее раздражаясь, Слащев поглядывал на молчащий аппарат, словно торопил его, и вдруг обнаружил, что его нетерпение передалось телеграфисту — тот сидел за столом бледный, опустив руки вдоль напряженного туловища. Сейчас этот человек в черной форменной тужурке напоминал ему испуганную птицу.
«Да ведь он боится меня…» — Вспомнив, что в последнее время он все чаще и чаще примечает страх на лицах людей, поморщился…
Стук ожившего аппарата заставил Слащева шагнуть к столу. Он нетерпеливо подхватил бумажную ленту.
«Джанкой. Слащеву. Полагаю, что приказы старших надлежит не обсуждать, а исполнять неукоснительно. Деникин».
Рука сжалась в кулак, Слащев с силой дернул ленту, сунул ее в карман.
Назад к своему вагону генерал шел, старательно глядя под ноги, точно боялся оступиться, лицо у него горело, словно от пощечины — подобной обиды он не испытывал давно.
Медленно, с видимой натугой переползая от полустанка к полустанку, шел из Симферополя на север полуострова поезд. Был он довольно длинным и пестрым: несколько обшарпанных теплушек, товарные вагоны и среди них — один классный, пассажирский, с занавесками на окнах. На полустанках было малолюдно. Пассажирами поезда в основном были крестьяне, привозившие на базар продукты. Везли солдат. Возвращались домой просители.
… В одном из купе классного вагона сидели две молоденькие девушки, которых в Симферополе никто не провожал, что казалось необычным даже по тем сломанным временам. Впрочем, отыскать нужный вагон девушкам помогал молодой, щеголеватый офицер, сейчас картинно стоявший в дверях.
На первый взгляд, девушки были похожи — обе большеглазые, светловолосые, смуглые, с той милой припухлостью губ, которая свойственна девичьим лицам на пороге юности, обе в длинных юбках и шерстяных жакетах с присборенными, приподнятыми над плечами рукавами. Однако, присмотревшись, можно было увидеть и несхожесть: девушка, сидевшая у окна, была строже своей соседки, ее темно-серые глаза смотрели прямо и пытливо, в линиях красивого лица чувствовалась скрытая энергия и серьезность.
Лицо ее подруги отличалось мягкостью, доброй улыбчивостью — на такие лица обычно смотрят с удовольствием, но вскоре же и забывают. Она оживленно разговаривала с молодым поручиком.
— О, господин Юрьев, как удачно, что вы тоже едете! Мы так благодарны вам за помощь!
Поручик склонил голову:
— Что вы, Елизавета Львовна, я почел за честь быть хоть чем-то полезен вам и вашей подруге.
— А почему вы давно не были? — продолжала кокетливо улыбаться Лиза. — Совсем забыли нас… Знаете, в эти времена теряешь друзей. Вот и с Верой мы сидели за одной партой, а теперь так редко видимся. — И Лнза полуобняла подругу, как бы приглашая принять участие в разговоре.
Вера коротко взглянула на нее — оживление Лизы угасло, теперь она едва отвечала Юрьеву. Он откланялся и ушел, пообещав зайти попозже.
Лиза виновато посмотрела на подругу, придвинулась ближе.
— Вера, ну, не печалься так! Вот увидишь, мы сделаем что-то для Коли. Яков Александрович мне не откажет… Ну, Верочка, душенька, не будь такой, ну, пожалуйста!..
Вера лишь молча кивнула и снова отвернулась к окну.
Она вспоминала то, что случилось вчера за полночь.
В окно постучали — и Вера тотчас проснулась. В последнее время она постоянно ожидала, что в окно постучат — размеренно, с одинаковыми интервалами, как было условлено. И хотя постучали иначе, нетерпеливо подбежала к окну, отвела занавеску и отпрянула: к стеклу прижималось чужое, незнакомое бородатое лицо.
Вера постояла мгновение в нерешительности, тревожно оглянулась — как бы не услышал отец, — встала на подоконник, открыла форточку и спросила громким шепотом:
— Ко вы? Что нужно?
— Вы, стало быть, барышня Дерюгина? — простуженно спросил бородач, запрокинув голову.
— Ну я, — откликнулась Вера. — Что случилось?
— Записку велено передать. От братца вашего…
— От Коли? — Вера громко ахнула, забыв, как чуток сон отца. — Но как же?.. Подождите… Идите на крыльцо, я сейчас открою.
— Не, барышня, — ответил бородач, шаря рукой у себя за пазухой. — Велено только передать. — Дотянувшись до форточки, вложил ей в руку клочок бумаги. — Ну, все. Я, значит, пошел! — Оглянувшись, шагнул в темень и тотчас растворился в ней.
— Постойте, — вскрикнула вслед Вера. — Куда же вы?..
Никто не ответил, будто и не было никого.
… Единственный Верин брат Николай Дерюгин год тому назад ушел с частями Красной Армии, покидавшей полуостров. Вестей от него не было все это время, но Вера, очень любившая брата, уверяла себя, что он жив и все у него хорошо. И вдруг эта записка…
Вера торопливо зажгла лампу. На помятом клочке бумаги было всего несколько слов: «Вера, я в плену у белых. В джанкойском лагере. Если сможешь…» — Дальше слова стерлись и разобрать можно было только подпись: «Николай». Да, это Колина рука, его почерк. Но… Какие-то мгновения Вера не могла осознать прочитанного: плен, лагерь в Джанкое… Что же это?.. Потом ее внимание сосредоточилось на двух словах: «Если сможешь…»
Коля в плену, просит помощи. Вера прислушалась. Все в доме было тихо. Она села на постель, держа перед собой записку. «Если сможешь, если сможешь…» А что она могла?
Если бы посоветоваться с отцом! Но давно миновали те времена, когда отец был опорой, защитой и высшим авторитетом, когда к нему можно было прийти с любой заботой и знать, что он обязательно поможет. После смерти матери отец серьезно заболел и старался жить теперь в абсолютном покое.
Так что же делать? Ясно одно: надо ехать в Джан-кой. Ну а там? Как найти лагерь? Косо просить о свидании? Удастся ли повидаться с братом? С кем же посоветоваться, с кем?
И тут же вспомнила: Митя! Ну, конечно, Митя Афонин, ее давний друг, товарищ по подпольной молодежной группе. Кстати, Митя не раз бывал в Джан-кое — у него там не то дальние родственники, не то знакомые. У них можно будет переночевать, ведь за один день ей не управиться.
Было еще очень рано, когда Вера вышла из дому. Нехотя поднимаясь над крышами, в глубине длинной Фонтанной улицы клубился туман. Обычно оживленные Салгирная и Екатерининская были пустынными. Никого не было и в самом центре возле кафедрального собора, только пожилая женщина в черном, широко размахивая тряпкой, мыла каменные щербинистые ступени паперти. Заслышав Верины шаги, она распрямилась и проводила девушку укоризненным взглядом: ну и молодежь пошла, лба не перекрестит на храм божий, бежит неизвестно куда в такую рань и глаз не поднимает!..
Вера спустилась на Архивную. Митя жил в самом конце улицы, в доме своей тетки, вдовы акцизного чиновника.
Узкий двор был пустынен, но в застекленной веранде домика горел свет. Вера постучала и тут же спохватилась: если откроет Митина тетка, особа крайне любопытная и подозрительная, надо будет как-то объяснить столь ранний приход.
Но дверь открыл сам Митя. Увидев ее, явно обрадовался — на его худощавом, смуглом лице появилась улыбка, черные глаза потеплели:
— Вера! Вот здорово! Проходи! — И тут, поняв, что неспроста Вера пришла в такую рань, посерьезнел, спросил тревожно: — Ты что, Вера? Да проходи, проходи, — он провел девушку в маленькую, тщательно прибранную комнату. — Садись, рассказывай. Что-нибудь с отцом?
— Нет, не с папой. Вот… — Она вынула из кармана и протянула Мите записку. — Это от Коли…
Мгновенно схватив взглядом содержание записки, Митя спросил:
— Что ты решила?
— Мне надо ехать в Джанкой, я должна… я обязана что-то делать!
— Да, конечно, — согласился Митя. — Но что ты сделаешь одна? Допустим, я поеду с тобой. Но и я… Вот если бы кто помог, похлопотал!..
— Мне бы увидеть Колю, поговорить!..
— Успокойся Вера, и давай подумаем вместе. В Джанкой поехать проще всего. А дальше что? — Митя замолк, напряженно что-то обдумывая, потом заговорил опять: — Вот что, Вера. Тебе надо к Лизе сходить, к Оболенской. Ты же дружила с ней.
— При чем здесь Лиза? — отмахнулась Вера. — Что она может?!
Митя упрямо тряхнул головой.
— Оболенские могут многое, если захотят. А главное, у них живет жена Слащева, ты же сама говорила…
Вера взглянула на него. А ведь правда! Коля в плену у Слащева… Вера даже улыбнулась сквозь слезы — появилась надежда. Выслушав Митины советы, как в данном случае следует вести себя в доме Оболенских, Вера побежала домой переодеться.
Двухэтажный белый особняк бывшего губернского предводителя дворянства Оболенского стоял на углу Долгоруковской, окнами к каменному обелиску, воздвигнутому в честь освобождения Крыма от турок. Вера очень любила этот памятник, шпиль которого так высоко, строго и властно поднимался в небо. Он и сейчас как бы приподнимал низко опущенные облака.